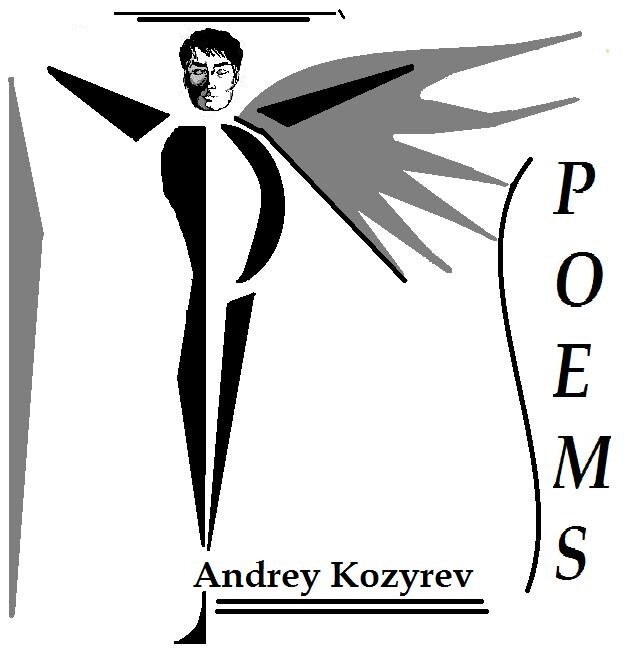ВЕРТЯЩИЕСЯ ПАЛОЧКИ
Антироман
Ich zähle mich, mein Gott, und du,
du hast das Recht, mich zu verschwenden.
Rainer Maria Rilke
85 а
С тех пор, как Рудницкий повесился, я чувствую, как его душа поочередно вселяется во всех нас, виновных в его гибели, и тянет нас на тот свет. Умерев, он стал всем – всеми нами. При жизни он ничего для нас не значил, но после смерти по-настоящему пришел в нашу жизнь и своевольно определил ее направление. Так бывает – иногда нужно умереть, чтобы стать живым.
Человек стоит посреди десятка расставленных зеркал, отражается в них, и зеркала отражаются в нем. Отражение отражается в отражении, луч преломляется в десятках других лучей, и человек перестает существовать. Его больше нет, он роздал себя зеркалам. Но его подобия в зеркалах живут и здравствуют, и нет ничего реальнее, чем они. Они выпьют всех, кто пройдет мимо зеркал, они станут жизнью и больше чем жизнью, а мир вокруг станет только одной из их вариаций.
Так мы раздаем себя людям, в сознании которых отражаемся, мы множимся, пока от нас не останется ничего, и только одна мысль продолжит витать в пространстве, где когда-то был человек – а был ли я? И можно ли фактом, что я только что исчез, доказать, что я существовал раньше?
66
МУХА
Предположим, ты спишь, – неважно, где, в постели, в лесу или в пустыне, – ты спишь, запрокинув лицо к небу, внимательно изучая во сне науку свободы, и не замечаешь, как муха неслышно ползет по твоему лицу. Ты спишь, как пророк, с полной самоотдачей, и во сне улыбаешься так грустно, словно тебе пришелся не по нраву личный ручной Апокалипсис твоего сна. Ты спишь, не шевелясь, не вздыхая, даже не дыша, смирившись от вкушаемой бесконечности, а муха, как муза, удивляется, ощупывая непослушный пейзаж твоего лица: провалы глазниц, возвышение носа, раковины ушей и впадину рта… Она читает рельеф твоего лица и дивится упрямой красоте этой подробной, внимательной прозы. Мистическая Абсолютная Муха видит твои сны фасеточным зрением, и пусть ты вознесен в свой безвыходный рай святой бездуховностью чистого разума, ты еще существуешь как белковое тело, пустое, как дистиллированный, очищенный от всего человеческого дух. Вечная загадка для потусторонних мух, ты медленно спишь и не знаешь, что пребываешь в раю, где муха фасеточным Божиим зрением неторопливо вбирает тебя в свою бесконечность.
93
Да, Бог имеет свою вселенскую форму, весь cуществующий мир является Его продолжением. Но точно так же можно считать вселенную продолжением человека, не просто так ведь было сказано, что природа – это наше неорганическое тело? Да и любое существо связано бесчисленными нитями со всем миром и может считать мир своим продолжением. Есть вселенская форма Бога, а есть вселенская форма червя, и каждый человек вправе выбирать, живет ли он в рассеянном теле Бога или рассеянном теле червя. Я же предпочитаю жить во вселенской форме Пушкина. Вся русская культура – продолжение пушкинских мотивов, пушкинского творчества и жизни, все, кто живет, мыслит и пишет сейчас на русском языке, являются органами одного великого тела, сердце которого – Пушкин! Да, Александр Сергеевич, так получилось, что я тоже один из ваших многочисленных членов. И мне как человеку угрюмому как приятно сознавать, что я еще и часть едва ли не единственной в истории России гармоничной личности! Только почему я, причастившийся Пушкину, разделен со своей родной Аталантой, также составляющей одну из частей того же вселенского организма? Не может единое существо жить в разделении с собой, иначе конец ему придет… Видимо, этот закон касается только отдельных смертных тел, а вселенские формы могут пребывать в рассеянии, и их цельности это не нарушает.
А мы с Аталантой, оставаясь частями одного тела, разделены, и найти ее я так же не могу, как увидеть свои уши или укусить свой локоть. Такова анатомия нашего всемирного Пушкина. Ай да Пушкин, ай да сукин сын!
Интересно, а какой частью вселенского тела Пушкина является покойный Рудницкий? А какой частью вселенской формы Рудницкого являюсь я?
95
НОВАЯ ЖИЗНЬ
Пространство вокруг меня резко ограничено, над моим лбом – деревянная доска, справа и слева – доски, подо мной тоже доска, и если перевернуться, сквозь щели можно увидеть, как внизу подо мной проносятся облака, а между ними иногда заметны горы, реки, озера, квадратики вспаханных полей и большие города. Я лечу в гробу над планетой, и иногда в моем деревянном скафандре появляются сэндвичи и бутылочки с минеральной водой, чтобы я мог перекусить. Долго ли мне предстоить лететь – я не знаю. Куда я лечу – тоже неведомо. Но пока что жить можно, если не считать того, что моя голова постоянно наполняется всякой чушью. Шепот, стоны, робкое дыханье, переходящее в музыку. Тра-та-тра-та-та… Почему она такая веселая? Смеется кто надо мной? Тра-та-тра-та-та-та… Бум-бу-бу… Ха-ха-ха! Это ж в моей башке звучит… Я сам себя развлечь пытаюсь. Чтоб не сойти с ума… Вот они, вот! Глаза! Руки… Ноги Рудницкого, висящего в петле! Надо петь, надо… Чтобы не думать. Быва-ает все на свете хорошо…. В чем дело, сразу не пойме-ошь! Не поймешь, в чем! А вот в чем! Тихо, тихо… Думай о другом. А я – иду, шагаю по Москве… И я пройти еще смогу! Блиин, как все это скучно. И не отвлечешься… Все одно в голове. Глаза эти, руки… ноги. Рваные ботинки. Жутко и скучно. Скучно, как смерть. Как лежать в гробу. Ничего вокруг нет. Ничего не меняется. Смерть – это очень скучно. Кто там меня зовет? Вода булькает? Река? Горит небо! Мы летим? Я не упаду? Не мысля гордый свет забавить… Не уходя ни шагу прочь. И буду век ему верна… Вроде все тихо. Нет? Вроде тихо. Сколько времени прошло, интересно? Мы сейчас летим? Где? Над Россией? Над Антарктидой? Плевать. Не могу я этого забыть… То, что было… Рудницкий… Петля… Нет, нет. Я из этого мира не вырвусь. Пока человек жив, он все равно в мире, хочет он того или нет. Даже если мира вокруг нет, человек все равно в нем – мыслями, болью. Уйти из мира можно только, сойдя с ума. А я схожу? Наверно. Зачем? Бежать надо! Прочь отсюда! Прочь! Я ударяюсь лбом о крышку гроба. Крышка прикреплена прочно. Ударяюсь снова, лбом, грудью, плечами, потом снова и снова. Бьюсь, разбивая лицо, чувствую соленую кровь на губах, на всем лице. Соломинка, так и не выплюнутая, застряла в зубах. Воздуха становится все меньше и меньше. В ушах стоит все тот же враждебный шум. Аталанта! Родная! Я здесь! Прости… Все-таки во мне что-то было… Зачем-то. Тра-та-та тра-та-та тра-та-та тра-та-та… Ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш……………… Угугугугугугуггуууууу…………….
64
Падать в бездну легче, чем висеть над ней.
1
Под широким, неподвижным, неотзывчивым степным небом течет река, длинная, тонкая, извилистая. Из монгольских степей через пески Средней Азии и тайгу течет она к покрытому льдами океану, течет, никем не замеченная. На реке стоит город – с виду обычный уездный городок: кирпичные и панельные дома, деревянные избы, густые тополя. Над тополями – тишина, горькая, соленая, опьяняющая.
Небоскребов в городе нет, и ничто не мешает жителям любоваться небом. Солнце льется на город триста дней в году, по вечерам разыгрываются закаты, неимоверные по яркости и глубине. Из пустыни, расположенной к югу от города, ветер приносит облака пыли. Летом – пекло и пыльные бури, зимой – сугробы в человеческий рост, весной и осенью – непролазная грязь из снега с песком напополам.
До ближайшего крупного города – тысяча километров, бескрайние поля мерно зыблющегося ковыля, изредка – березки. До Европы с ее цивилизацией, открытиями и великими событиями – пять тысяч. Один только раз за последние триста лет в город пришла история – это было, когда из европейской части страны приехали инженеры и провели железную дорогу. Вслед за ними со всех соседних губерний в город перебрались купцы, построили себе каменные дома, большие магазины и рестораны и завели торговлю со всей Азией, а еще через двадцать лет по этой же дороге приехали военные и на год с небольшим объявили город столицей России. Как пришла в степной край столица, так и ушла, горожане даже этого не заметили, недолго гостила у них история. Там, где живет Вечность, история людям не нужна. Москва же обиделась на конкурента, и с тех пор больше ста лет город находится в полуопальном положении – менялись правители и формации, но неприязнь и глухое опасение столицы остаются неизменными.
И живут в городе люди – славяне, казахи, татары, немцы, корейцы, армяне, цыгане – более ста народов. Уже два столетия стоят рядом в Казачьей слободе церковь, мечеть и синагога, в центре города каменный Ленин торжественно указывает рукой на храм, построенный Николаем II, и над этим безразлично плывут по выпуклому небу облака.
По характеру каждый житель города – буддист, к какой бы религии себя ни относил. Люди живут, не покидая своей степной нирваны, рождаются, учатся, работают, любят и умирают, не просыпаясь. И видят сны. Сны, неторопливые и яркие, как пустынные закаты над рекой. Кажется, что древняя буддийская степь сама увидела во сне город, идеально подходящий для того, чтобы мечтать, философствовать и ничего не делать, и этому многовековому сну ничего не оставалось, как стать реальностью.
Время от времени сны древней земли сгущаются еще сильнее и принимают образ человека – всегда должен быть в сонном царстве главный сновидец. Все, о чем мечтают жители степного края, чего боятся и на что втайне надеются, воплощается в его жизни – у разных сновидцев разной, но всегда такой же, как и скрытые мечты его земли. Люди видят в нем свои главные черты, как в зеркале, и часто отшатываются или идут за ним, как за пророком. Он же часто не замечает их, он живет, отвернувшись от прошлого и будущего, глядя в светлое равнодушное небо, по которому неторопливо, как безотчетные поэтические фантазии, плывут пушистые облака.
Я – один из этих сновидцев. Даже когда я не сплю, я вижу сновидения. Иногда они прекрасны, иногда отталкивающи, но в любом случае они интереснее окружающего меня сонного царства, в котором уже сто лет ничего не происходило. Может быть, когда-нибудь мои мечты и воздушные замки станут частью реальности? Если честно, я бы не хотел этого. Грубая жизнь опошлила бы их, лишила возвышенности. Но если они кому-то могут быть интересны – приглашаю всех, кто любит мечтать, в свои сны. Они просторны, в них много обителей, может быть, кто-нибудь сможет найти в них свободу, отдых и покой.
111
Иногда мне кажется, что в нашем городе есть метро. Нам просто пока что не позволено заходить в него. Внизу, в глубоком подземелье, – не темно, не пусто, не безжизненно. Там живут все, кого мы потеряли в этой жизни, – бизнесмены, убитые бандитами в 90-е, священнослужители, расстрелянные в 30-е. Там поезда улетают в глубину веков, чтобы привезти нам письма из Атлантиды. Туда я когда-нибудь уйду – в метро, которого в самом деле нет, в безымянную темную святость, с которой, может быть, и не надо света. Там я смогу отдохнуть от земных забот, присев на скамью, которая в надземном мире давно сгорела, и мне оближет руки рыжий кот, умерший, когда мне было шесть лет.
34
Между рельсов растет молодая трава. Я еду на старом, неторопливо покачивающемся трамвайчике по захолустью. Вдоль моего пути стоят серые с розовым сталинки, шумят густые тополя, дремлют алюминиевые гаражи и покосившиеся дощатые заборы. Трамвай пуст, в нем нет никого, кроме меня и девочки со скрипкой в футляре, сидящей на первом сиденье, почти через весь салон от меня. Я наслаждаюсь пустотой, монотонным шумом трамвая, медленной сменой видов за окном и постепенно погружаюсь в транс, в трамвайную медитацию. В этом состоянии, пограничном между сном и бодрствованием, я становлюсь трамвайным демиургом и силой мечты создаю пейзажи за окнами трамвая. Я постигаю пустующий объем трамвая, расширяю свое сознание до его пределов, делаю трамвай своим неорганическим телом. Трамвай, ставший на время моего присутствия одушевленным, точно так же находит продолжение в окрестных пейзажах.
Моя душа, витающая над временами и мирами, метемпсихует, медитирует, эманирует и постепенно обрастает телом, тело обрастает железным трамваем, трамвай – городом. Все это проистекает из одного источника – моего могущественного сознания. Я, как магический сосуд в другом сосуде, нахожусь внутри трамвая, трамвай – внутри мира. А внутри меня, в свою очередь, находится весь мир, сообразный мне – серостью, тишиной, мудрым медитационным состоянием. В этой вселенной, находящейся одновременно внутри и вне меня, другие мечтательные трамваи с другими ясносновидцами летят, как планеты, по своим рельсам-орбитам.
Эй, мироздание! Я рассеял себя по твоим пространствам, я – трамвайный бог – присутствую во всем, в этом моросящем дожде, пустующих качелях и грибке на детской площадке! Это моя душа расчерчена на квадраты дворов, это она мокнет вороной под дождем, который – тоже я! За эту неказистую материальную оболочку я отдал свою бесплотность и бессмертие! Пройдет время, и моей единственной плотью останутся слова, мое звуковое тело, но они, как флогистон, вспыхнут в атмосфере, как только кто-либо прикоснется к ним мыслью, и из них снова родится этот мир – серые сталинки, дощатый забор, мокнущее во дворе белье и медленно уезжающий за пределы времени и пространства красный трамвай, мое неорганическое тело!
5
Всю свою жизнь я занят одним делом. Это Дело – собирание Человека из миллионов людей.
Я ищу тебя, Человек. Ищу тебя. Не нахожу – и создаю заново. Собираю тебя из взоров тысяч людей. Из бликов, из запахов, из звуков. Ошибаюсь, падаю, поднимаюсь снова. И иду дальше. И дальше ищу тебя. И многое сделал, доброе и дурное, и на многое еще способен –
– Во имя Твое, Человек!
Ищу тебя, Человек. Ищу не микрокосмос, а макроантропос. Ищу в человеке, чаще всего – в себе самом, человеческое, и иногда кажется – вот, поймал, все… а нет – разжимаешь пальцы, и пустота между ними. Человеческое – оно ни на секунду ни в чьих руках не задерживается. Найти Человека в себе – все равно что поймать ветер. Дело это безнадежное, я знаю. Но все-таки – ловлю ветер.
А для чего?
– Во имя Твое, Человек!
И не найду тебя я, и себя утрачу, и со своей Лапуты на каменную землю упаду, и живую душу об острые каменья разобью – и не раскаюсь в этом, ибо все это –
– Во имя Твое, Человек!
Во имя Твое несбывшееся…
44
Человек: инструкция по применению
(Из записок Константина Тугарина)
Иногда на прогулке или даже у себя дома вы можете заметить странных существ, похожих на бесперых и бесхвостых петухов с пальцами на крыльях. Они передвигаются на двух ногах, при ходьбе держат туловище вертикально. Время от времени они обмениваются друг с другом звуками, разделенными на слоги и содержащими зашифрованную информацию, которую сами часто не понимают. Иногда их поведение может показаться разумным, но в целом они руководствуются простейшими инстинктами – стадным и хищническим. Это люди.
Основными функциями человека являются собственное выживание и выживание с лица Земли себе подобных. Первая функция проявляется в том, что люди прячутся друг от друга в гигантских каменных коробках, заворачивают свои туловища в раскрашенные тряпки и запасают многочисленные бесполезные предметы, которые можно будет в черный день обменять на пищу. В рамках выполнения второй функции люди изобрели множество коварных средств, самыми распространенными из которых являются так называемые любовь к ближнему, любовь к родине и медицина.
Также людям иногда свойственно задумываться о том, чего нет. Люди верят в созданные ими фикции, которых не в состоянии ни увидеть, ни пощупать, – богов, деньги и счастье. Когда человек задумывается об одной из этих фикций, его и без того хрупкая связь с реальностью разрушается окончательно и он становится полностью беззащитным. Именно в эти периоды жизни его легче всего приручить или уничтожить.
Сами по себе люди, особенно когда они находятся в стаде, как правило, способны только наносить ущерб окружающей среде, но отдельный правильно прирученный человек может принести вам большую пользу.
Человека можно использовать как игрушку. Лучшие представители человеческого вида мягки, эластичны и приятны на ощупь, но даже они в случае неправильной игры могут укусить, тявкнуть или ударить током. Чтобы этого не произошло, перед игрой нужно влить большой объем лжи в слушательные отверстия человека, а после игры подкормить его. Больше всего люди любят питаться обещаниями. Постоянно подкармливаемый человек может быть использован практически в любой игре, хоть в семью, хоть в войну.
Человека можно использовать как инструмент для выполнения любой работы. У человека есть две хватательные руки и легко программируемый мозг. Легче всего программировать людей, когда они чем-то напуганы. Напугать их несложно, они от природы трусливы и больше всего боятся того, чего не могут понять. Выдумайте для них чудовище, выходящее за пределы их понимания, дайте ему страшное имя, и люди сделают что угодно, лишь бы спастись от этого чудовища. При этом важно не переусердствовать, от слишком сильного страха человек может сломаться. Поэтому лучше всего пугать людей выдуманными опасностями, а на реальные закрывать им зрительные отверстия, вливая в слушательные отверстия двойной объем лжи.
Наконец, человека можно использовать как предмет культа. Абсурдность поведения, свойственная человеку, позволяла многим мыслителям считать его проводником высшего разума. Философы издавна верили, что в непредсказуемых поступках людей кроется некий высший смысл, и даже пытались его разгадать. Поэты воспевали противоречивость людей как космическую тайну. Поклонение человеку стало причиной создания множества произведений искусства, но следует понимать, что в реальности даже обожествленный человек все равно остается не более чем большим ощипанным петухом, и ждать от него откровений так же нелепо, как от кофейной гущи или деревянного идола.
Самое главное, что нужно знать при использовании человека, – не злоупотребляйте людьми, чтобы не уподобиться им. Увлекшись обращением с людьми, можно вступить с ними в эмоциональный контакт, стать зависимым от них, заболеть противоречиями и утратить связь с реальностью. Зависимость от людей в настоящее время не лечится и в течение нескольких десятилетий приводит к распаду личности даже у самого сильного сверхчеловека. Чтобы этого не произошло, следует менять используемых вами людей каждые два-три года, в наши дни утилизировать одного человека и найти ему замену совсем несложно. Более долгое общение с представителями этого рода почти всегда приводит к деградации.
Таким образом, человек — это сложный предмет, требующий понимания. Следуя данной инструкции, вы сможете овладеть искусством практического применения людей, избежите опасностей, которые могут исходить от этого существа, и извлечь из него максимальную выгоду.
45
Как воспитать в себе сверхчеловека
(Из записок Константина Тугарина)
Сверхчеловек – это редкая порода животных, отличающаяся умом, сообразительностью и ловкостью. Иногда это существо заводится в мозгу обычного человека и подчиняет себе его мысли, слова и поступки. В этом случае человек начинает ставить перед собой гигантские цели, работать с удесятеренной силой и, как правило, ценой огромных потерь добивается результата, которым все равно остается недоволен. Сверхчеловек всегда наносит ущерб своему окружению, но в целом он обычно полезен для общества.
Чтобы вырастить внутри себя сверхчеловека, нужно уподобиться колбе, в которой растет гомункулус. Первым толчком для зарождения в сознании ростков сверхчеловечества обычно становится сильная обида – на природу или общество. Нужно потерять все, что дорого в этой жизни, сильно разозлиться на весь мир, сжечь в себе силой злобы все живое и этой же злобой возродить себя к жизни. Для правильного протекания этого процесса полезным оказывается одиночество (изгнанничество) и постоянное присутствие рядом злобного учителя, способного дать перерождающейся душе уроки фанатизма, трудолюбия и безжалостности. Несколько лет упорного воспитания дисциплины в условиях жесткого аскетизма помогают подчинить все чувства и мысли одной цели. После этого преодоление внешних препятствий становится делом техники: приручи дьявола в себе, и ты овладеешь его силой во внешнем мире.
Каждый уважающий себя сверхчеловек должен иметь свою сверхидею. Он должен посвятить жизнь чему-то, что превыше всего – любви, справедливости, свободе, порядку, величию родной страны, на худой конец, своим амбициям. Сама сверхидея при этом не так важна, она настолько велика, что не несет в себе никакого конкретного смысла, важен фанатизм, с которым сверхчеловек ей служит, и жертвы, которые приносятся для ее достижения. Главное в служении сверхидее – красота позы героя, жертвующего собой и другими ради нее, а конкретные результаты не имеют значения, это уже проза жизни, а до прозы сверхчеловеку дела нет.
Следует помнить, что сверхчеловек – это зверь, требующий непрерывной дрессировки. Его нужно постоянно злить и натравливать на новые цели. Он не знает покоя, жаждет великих дел и ради них перемалывает в порошок все, что встречает на пути. Поэтому следует направлять его деятельность в наиболее безвредную сторону – пусть лучше он фантазирует о мировом господстве, пишет об этом книги, создает симфонии или снимает фильмы, чем занимается реальной войной или реформами. Как правило, голод сверхчеловека вполне можно насытить фантазиями, в этом случае ущерб, наносимый окружающему миру, ограничивается кругом его семьи. Если же он берется перекраивать объективную реальность, последствия оказываются намного более трагическими.
Также нужно знать, что каждый сверхчеловек с самого начала носит в себе свою смерть, более того – он сам и есть своя смерть. Он живет настолько интенсивно, что выжигает все вокруг себя и сжигает себя самого. В конце концов земля перестает носить сверхчеловека, и он устает сам от себя. Тогда в его организме включаются алгоритмы самоуничтожения – депрессии, помешательство, алкоголь, наркотики, бродяжничество, суицид и т.д. Нет сверхчеловека, который умер бы мирной смертью, его жизнь и ее завершение неизменно катастрофичны. Это неизбежная плата за напряжение, с которым он совершает свои великие дела.
У заурядных людей сверхчеловек обычно вызывает сначала недоумение, а потом – восторг. Все грандиозное отталкивает посредственностей, когда они находятся рядом с ним, но вызывает благоговение и мистический экстаз при созерцании с безопасного расстояния. Поэтому они создают для себя зоопарки, в которых могут полюбоваться на сверхлюдей, запертых в клетках и не способных причинить вреда. Популярны также выставки мумифицированных сверхлюдей и окаменевших продуктов их жизнедеятельности – мавзолеи, музеи и т.д. Пигмеи любят устраивать сафари на сверхчеловеков и украшают жилища чучелами затравленных ими хищников. В этом есть религиозный смысл. Люди с начала времен хотели стать как боги, но были не в силах этого добиться. Особи, превосходившие свое окружение умом и талантами, объявляли себя богами, а особи, осознававшие свое ничтожество, жестоко мстили за него самопровозглашенным богам и в их лице небесному Богу. В судьбе каждого сверхчеловека прослеживаются два этих сюжета – о богатыре, возомнившем себя Богом, и пигмеях, поверивших в его божественность и всем скопом растерзавших его. Богостроительство и богоубийство – два основных занятия, которыми в течение мировой истории занимаются цивилизованные люди.
127
Анна Карамазова проснулась в два часа дня. Голова после вчерашнего трещала по швам. С трудом встав, умылась и долго перед зеркалом сбривала с щек трехдневную щетину. Приняв таблетку от головной боли, включила на плеере Морриконе и долго пила зеленый чай под тихую музыку. Страус в прихожей вел себя на редкость смирно, и это было подозрительно, а может быть, он по предыдущему инциденту понял, что в таком состоянии Анну лучше не беспокоить.
Чуть-чуть придя в себя, Анна написала в мессенджере сообщения Темникову и Рудницкому. Темников не прочитал ее послание, а Рудницкий с того света сразу прислал ей эмодзи – череп, кости, руку и сердце. Случайно разлив масло, Анна хлопнула в ладони, и усатый дворецкий принес ей парадный мундир и кирзовые сапоги. Надо было приниматься за свое старинное дело – проводить смотр начинающих русских писателей на Семеновском плацу. Анна не сомневалась, что работу выполнит исправно, слишком большой у нее был опыт в этой и во всех смежных областях. Но почему от этого опыта так болит голова?... Верно, не стоило вчера бросаться под поезд.
6
Я, Алексей Дмитриевич Темников, литератор, двадцати шести лет, работаю корректором в редакции литературного журнала «Пылежуйские огни». Редакция занимает просторный офис на первом этаже знаменитой «сталинки». В ней всегда царят мертвая тишина и вечный покой. На белых плохо отштукатуренных стенах в несколько рядов висят портреты знаменитых авторов журнала и почетные грамоты. В углу теснится массивный шкаф с номерами журнала и книгами – классики и графоманы, дарившие редакции свои книги, лежат друг на друге, штабелями, без какого-либо порядка. Вдоль стен стоят столы, похожие на школьные парты, на столах – компьютеры для верстки и корректуры номеров, 2 (две) штуки. У входа в офис – кулер с водой и кофемашина, все как у людей.
За большим круглым столом в центре храма по восемь часов в день возвышается главный редактор – высокий семидесятилетний старик. По его виду сразу можно понять, что это писатель и мыслитель, – прямая спина, орлиный нос, фиолетовые мешки под синими глазами, стрижка бобриком. Занимается он в основном тем, что пьет чай, меланхолично помешивая ложечкой в стакане. Кроме звона ложечки о стенки стакана, больше в редакции можно часами ничего не услышать.
За компьютерными столами располагаются верстальщик и корректор (ваш покорный слуга). Иногда мы исполняем свои профессиональные обязанности, но большую часть времени проводим в такой же молчаливой медитации, как наш шеф, – работы у нас не так много. Изредка мы перебрасываемся несколькими фразами, как правило, ругаем чиновников или издеваемся над присланными рукописями. Больше пяти минут эти беседы не занимают.
Веселее становится, когда в офисе появляется редактор отдела поэзии – невысокая сорокалетняя брюнетка, стриженая под мальчишку, быстрая, юркая, острая на язык. Она понимает, что мэтров русской словесности ей не разбудить, поэтому основные силы тратит на телефонные разговоры и электронную переписку с авторами. Впрочем, часто она не приходит, раз в несколько дней, за день выполняет всю накопившуюся работу и снова исчезает в неизвестном направлении. Остальной коллектив при этом вздыхает с облегчением. Редакторы других отделов появляются значительно реже, в основном они обмениваются мнениями о рукописях по электронной почте.
Лично авторы в офис приходят редко, потому что общение с главредом сводится к переброске несколькими репликами и часовому молчаливому распиванию чая. После чайной церемонии главред, как правило, кладет рукописи в шкаф, говорит: «Мы посмотрим, посоветуемся, но ничего обещать не могу», и приходится раскланиваться. Этот ритуал всем известен, поэтому лично в редакцию заходят или молодые, еще ничего не понимающие в литературном общении люди, или побитые жизнью любители тишины, для которых помолчать с хорошим человеком само по себе отрадно – независимо от того, напечатают их или нет. Публикация – не главное, главное – тишина и порядок, которых в нашем мире не осталось больше нигде, кроме сибирской тайги и редакций толстых журналов. Но до тайги далеко, а до редакции на автобусе минут пятнадцать-двадцать.
Ценители тишины, как правило, проводят в храме по несколько часов, иногда задерживаются и после завершения рабочего дня. В этом случае главреду приходится намекать им, что нужно освободить помещение, – по вечерам в том же офисе собирается клуб любителей зарубежного кино. Гуру горько вздыхает, встает, потирая бок, и говорит: «Ну что, нам пора уже, да?» Адепты сразу понимают, что счастливое время закончилось, и так же молча расходятся. Главред покидает корабль последним и оставляет ключ вахтерше.
В офисе сгущаются сумерки, лица классиков и современников отчужденно смотрят со стен в полутемное, холодное, необжитое пространство. А примерно через полчаса в двери начинает скрестись вероломный, как мышка, ключ, и в холодное пространство проникает новая молчаливая ватага – любителям кино не терпится посидеть несколько часов в темноте и посмотреть интеллектуальный скандинавский фильм.
В сущности, наша редакция – один из самых тихих затонов города Сна, погребенного под медленными водами мутной реки Тишины. Она, как и весь город, создана для тех, кто любит мечтать, философствовать и ничего не делать. Корректируя номера журнала, я чувствую абсолютную свободу от всех забот и тревог, от государственных переворотов и войн, происходящих в мире, от смены времен года, от шума за окнами, от собственной души и тела. Есть только буковки, которые я внимательно просматриваю и исправляю, молчаливый экран компьютера и чашка чая на столе. Это – единственная истинная реальность, это – то, что не подвержено изменениям в течение последних 80 лет. Буддийскую нирвану я представляю в виде офиса редакции «Пылежуйских огней».
27
Сегодняшняя поездка по городу – как экскурсия в ярко освещенный, технически обустроенный, ставший единым гремящим и движущимся механизмом ад, вроде того, что недавно виделся мне во сне. Я сидел в автобусе, черкая в записной книжке строки, а город тек мимо, рассыпаясь в блеске витрин, пестром хаосе плакатов, шуме машин, бесхарактерности однообразно-нудных стен, кричащем сиротстве обкорнанных деревьев, серости штукатурки, муравьиных стаях сверкающих вывесок, которые ползли по стенам, окнам, крышам, взбираясь на самое небо, чтобы и там не осталось не единого кусочка пространства, не приспособленного для извлечения прибыли. Город дрожал и гремел, как вулкан, извергающий огненные потоки новостей, слухов и сенсаций, модных веяний и настроений, цветов, звуков и запахов, и кажется – вот-вот каменная громовержущая гора вспыхнет и растворится в порождаемом ей огне и сиянии, вековые стены станут прозрачными, как стекло, а потом вовсе растворятся, и не будет больше ни камня, ни земли, ни воздуха – только эти ослепительные потоки светомузыки, уносящие с собой всех, кто хоть на миг остановился, пораженный их красотой.
А на небе над городом нависали первобытные тучи. Я смотрел на них, и моему сердцу становилось холодно от молчаливой беседы с неулыбчивым простором. Глаза даже чуть-чуть болели от пространства, открывшегося им, и кружилась голова от правды о нашем мире, которая вдруг стала понятна мне.
92
Вчера я мог видеть, и я видел огромное заполненное оранжево-розовым сиянием пространство над собой, я видел огромный сияющий шар, похожий на планету Земля, но покрытый бесчисленным множеством сияющих капель, в каждой из которых лучились белозубые улыбки. От этих улыбок в глубину космоса простирались теплые оранжевые лучи, как руки, протянутые к другим планетам. Пространство вокруг Земли цвело, переливалось и благоухало.
В прозрачных каплях, покрывших поверхность Земли, проплывали счастливые человеческие лица – детские, материнские, юношеские, распускались цветы неведомых пород, невероятные ало-сине-розовые бутоны, из сердцевин которых вылетали птицы радужной раскраски.
«Вот она, Земля будущего… Пангея… Всеземля…» – думал я.
По поверхности планеты двигались яркие, разноцветные материки, похожие по очертаниям на диковинных зверей. С них доносилась музыка, песни, топот пляшущих ног. В сияющем пространстве надо мной раскрывалось и цвело в воздухе бесчисленное множество ярких цветов, образующих гигантское бессмертное тело, вечно движущееся, вечно блаженное и единое. Из цветов поднимались изящные человеческие руки, державшие кисти, флейты и скрипки. Из музыкальных инструментов сама собой лилась прекрасная музыка.
В бессмертном теле Земли, от поверхности и до сердцевины, жили все, кто когда-то мыслил и страдал, кто принес человечеству хоть крупицу света, ныне преобразившего мир. Они были едины, каждое существо перетекало в каждое, блаженно продолжаясь в бесконечность и этим обогащая себя и других, и им не было конца. Земля – живая, одухотворенная планета – ликовала, чувствуя и понимая их блаженство, прирастая им. У великого океана Жизни, начавшегося с микроскопической клетки и выплеснувшегося в космос, не было ни начала, ни конца, ни середины.
Это была цель истории. Это была Всеземля. Ради этого мы страдаем, плачем, проливаем кровь и слезы, ложимся костьми на полях сражений! Этот неисчерпаемый, вечный, абсолютный праздник, вырастающий из наших страданий, когда-нибудь приютит нас в своей сердцевине, мы воскреснем – не чудом, а силой науки – и преобразимся в нем.
2
Мир начинает рождаться около шести часов утра. Сначала в светящемся пространстве начинают плыть размытые геометрические формы, вертеться цветные пятна, точки и палочки. Потом все тело охватывает мучительное чувство тесноты, спина чувствует матрац, сквозь который проступают металлические пружины, становится тесно ногам, упирающимся в спинку кровати. Я начинаю ворочаться с боку на бок и постепенно просыпаюсь, вернее, перехожу в состояние полусна-полубодрствования. В этом состоянии я могу лежать несколько часов.
Утро выдается серое, безблагодатное, такое, когда тишина звучит страшнее, чем раскаты грома. С таких утр обычно начинаются бесконечные дни, в которых нечему случиться, или дни, в которых происходит нечто страшное.
Воздух наэлектризован, парит, как перед грозой. Пустые дворы тонут в зеленом лиственном потопе. Под шум листвы на скамейке спит бомж. Слышно, как за три квартала от моего дома сопит во сне завод, такой же, как бомж, смурной, заросший по щеки ржавчиной. Вдали дымится черная труба, над ней пристально молчит серое жилистое небо. Свинцового цвета речка, гордая проглатываемой ей промышленной отравой, несет серые воды на север. Город спит. Ни шум заводов, ни гром войны, ни смерть поэта, ни слезинка ребенка не проникают в спящий разум горожан. В их снах есть главное – Тишина, возлюбленная тишина. Она растет и ширится, расходится кругами, навязчивая, захватывает все новые и новые земли, новые и новые души. В ней могут щебетать тополя и кашлять буксиры на реке, но Бог молчит – не гневается, не смеется над нами, просто молчит. Или что-то говорит, но люди этого не слышат. Они дальше от Него, чем Он от них.
В серости рассвета чуть подергиваются зеленые растительные нервы. Люди, неслышные, как тени, скользят, группируются, перестраиваются в пространстве утра, как полки, выстраивающиеся под знаменами самовластной Тишины. Я смотрю за окно, наблюдая веками стоящее над материком простое и просторное, как простыня, буднее утро, которое никогда не перерастет в день или вечер. Эта серость – мерзостнее, чем сумерки или гроза. Свет тоже бывает тьмой.
Над раскисшими после ночного дождя улицами плывут медленные облака, под ними дремлют серые пятиэтажки, коричневые кирпичные коттеджи, обнесенные желтыми стенами, нахохлившиеся, как воробьи, избы, заляпанный дом культуры, скелет возводимой уже пять лет деревянной церкви. Все хмурое, привычное, родное.
Я пытаюсь понять, как и почему мы в этой плоской бездне оказались. Да, эта бездна – плоская, а мы, объемные, барахтаемся в прилипчивой плоскости, как мухи, попавшие в паутину. И не вырвемся, пока сами не станем плоскими. А плоскому в плоском мире очень даже комфортно, гуляй – не хочу. И какой тут может быть выход? Прорвать плоскость – и упасть в глубину. Глубина затянет, но хотя бы не сотрет. Это хоть чуть-чуть лучше. Но чтобы пробить поверхность, нужен удар большой силы… Какой?
Но вдруг природа решает порадовать меня. Медленные облака прорываются, в городе случается настоящий потоп, летний ливень, когда вода льется с неба как из ведра. Я с детства ненавижу лето, единственное, что мне в нем нравится, – это летние ливни, вроде сегодняшнего.
Дымясь электрической розой ветров, по улицам носятся листья и крики. От небосвода до окон зданий, от серых облаков до мокрых досок на аллее литераторов в пьяной тоске мечется распыленное в воздухе электричество. Ливень рисует и тут же смывает свои следы на лицах людей и растений. Его капли словно дымятся от страсти, падая в пляшущие лужи. Дома, дороги, камни и деревья – весь мир заново крестится влажным огнем, и в этом пестром хаосе снуют маленькие боги, сшивая пространство и время в одно. Все вокруг кружится, мечется, ликует и злится, то зеленое и темное, то ослепительно яркое, чужие слезы залетают мне в глаза, и я чувствую, как мое дождевое сердце пульсирует в хаосе листьев, шипящих на тьму и мокро-зеленый свет.
Радостное крушение неба на город – лучшее завершение утра. Именно в такие мгновения я не жалею, что живу.
48
СЕРЫЕ АНГЕЛЫ
(Отрывок из ненаписанной альтернативной Библии)
…и длилось время Творения. И был мир, сотворенный Богом. И была война между ангелами Божиими и слугами Сатанаиловыми. Война создала мир, и мир породил войну.
И третья часть ангелов Божиих отпала от Создателя своего и примкнула к Сатанаилу, третья часть осталась верна Творцу, третья же часть избрала свой путь – не путь Господень и не путь Сатанаилов, не путь добра и не путь зла, не путь любви и не путь ненависти, но путь истины и справедливости, что противна милосердию, как и жестокости.
Не боролись эти ангелы ни с Богом, ни с дьяволом, не искали власти над миром, не требовали от людей поклонения себе, но незримо следовали за людьми и вносили правду в умы и души их.
И были люди, очищенные и спасенные правдою, и были люди, растленные и убитые правдою. Жили они, и работали истине, и не знали ни любви, ни злобы, ни счастья, ни страдания, – только работу мысли и сердца, бесконечную, машинной работе подобную…
И были на земле вестники Божии – святые и пророки; и были вестники Сатанаиловы – тираны, бунтовщики, завоеватели; и были вестники серых ангелов – художники и провидцы, не от мира сего и не от мира Божьего, не умевшие завоевать ни счастья, ни успеха, ни святости – и не желавшие завоевывать их.
Другое дано было им: знать правду о счастье, об успехе, о святости, о своей ничтожности, о своем величии, и принимать их, и мучиться ими, и не мочь изменить их.
Таков крест, данный правдою слугам ее, да распнутся они добровольно на нем и да вознесутся на нем над миром…
И продолжаем мы дело их. Труден и каменист путь наш, и немногочисленно рассеянное братство наше, и некому помочь нам в пути.
Много подвигов предстоит нам совершить, но не будет нам наград за них ни в Божием, ни в Сатанаиловом царстве, и не захотим мы наград этих, ибо жизнь есть труд, а не воздаяние, и обесценивается всякий труд воздаянием.
Но живем мы, и идем, и работаем душами и мыслями нашими, и легко нам, как никому другому, ибо нет нас у нас, не заботимся мы ни о каком личном достоянии нашем – и не боимся за него, и чисты взоры наши.
Идем мы, и смотрим вперед и вверх при свете дня и во мраке ночи, и не смыкаем глаз, ибо только в этом призвание наше.
Не смыкайте глаз, говорим мы себе нашу единственную заповедь, не смыкайте глаз, даже если свет иссякнет вокруг.
Зрячими будьте – и да увидите правду вокруг себя, и познаете справедливость, и сделает она вас одинокими.
И увидите, что таят в себе люди, вас окружающие, как живут они, откуда и куда идут, что нужно им и от чего суждена им гибель, и захотите помочь им, и не поможете, и не спасете;
и проклянете их, и от Бога отпадете, и одинокой, пустынной смертью умрете, но не откажетесь от судьбы своей,
ибо видеть истину выше, чем служить ей слепо, и страдать по справедливости лучше, чем быть счастливым по ошибке.
Зрячими будьте – и не смыкайте глаз, не смыкайте, хоть и солнце ваше погаснет, и мир ваш сожмется в зерно, и время иссякнет, и жизнь оставит вас. Не смыкайте глаз, живя вечною жизнью; не смыкайте глаз, умирая вечною смертью; не смыкайте глаз, и простят вас – но не захотите вы прощения.
4
У входа в мою комнату на тумбочке стоит статуэтка ангела, вырезанная из дерева моим отцом-скульптором. Этот ангел – почти мой ровесник. О его создании отец начал задумываться после моего рождения. Мать умирала от послеродовой горячки, и отец решил изваять образ ее хранителя. Но мама умерла прежде, чем он начал свою работу.
Отец сильно переживал из-за смерти жены. В нем родилась сильная неприязнь ко мне – из-за меня ведь мама погибла... Он ушел из нашей семьи. Я рос, почти не видясь с отцом. Воспитывали меня родственники мамы.
С рождения я был «гадким утенком», потому что на моей правой щеке красовалось огромное родимое пятно. Сверстники или сторонились меня, или насмехались. Это было тяжело вынести, но постепенно душа от ударов обросла мозолями, и стало легче.
Все, что я знал об отце, я знал от родственников матери. Они рассказывали о нем, как правило, гадости. С детства я считал отца эгоистом, чудаком, дебоширом, помешанным. Изредка я встречался с ним – высоким длиннобородым мужчиной, приходившим к нам в гости. Помню его сутулые плечи и по-обезьяньи длинные руки, лежащие на коленях. Он почти не говорил со мной, но иногда приносил деревянные игрушки собственной работы, которых я почему-то боялся. Пугали меня и взгляды отца – он всегда смотрел на меня с выражением разочарования и отвращения художника к неудачной вещи. Со временем я начал казаться себе затравленным волчонком, а отец – волком, гордым и сильным, но хищным и злым.
Накануне моего двадцатилетия отец умер. Я помню, как он лежал в гробу, – красивый, рано поседевший, с темными кругами под глазами (по-видимому, от запоев). Его руки с нервными пальцами и длинными «артистическими» ногтями казались вырезанными из светлого дерева. Облик мертвого отца казался произведением искусства, а не внешностью обычного человека.
Смерть отца вызвала ажиотаж в прессе. Среди скульпторов он стал почти легендой. В мастерской родителя нашли много неизвестных работ, их выставка произвела сенсацию. Мои родственники, не простившие скульптору загубленной жизни мамы, старались не замечать его славы.
На посмертной выставке отца я и увидел эту небольшую работу – ангела нашей семьи. Посланник Господа стоял на цыпочках, словно ребенок, стремящийся заглянуть в окно дома, где собрались взрослые. Руки ангела тоже были вытянуты, как у ребенка, держащегося за подоконник. Но его глаз я не мог видеть – они были закрыты крыльями. Огромными крыльями, на которых в нервной манере было обозначено каждое перо…
Что увидел этот ангел, если он закрыл лицо? Какое знание жило в его голове с развевающимися волосами? Я не знал этого. Но было ясно: это мой ангел, тот самый, что принес мою душу в мир, подарил мне это уродливое тело, отнял жизнь у мамы и в конце концов явился отцу, чтобы тот запечатлел его в дереве.
С тех пор образ жестокого ангела, закрывающего глаза крыльями, постоянно преследовал меня. Просыпаясь утром, я молился этому ангелу. Видя на улице красивое женское лицо, я невольно задумывался: не такие ли у ангела глаза? Идя вечером по темной улице, где хозяйничали бандиты, я не боялся, потому что чувствовал дыхание ангела за спиной.
Наконец мой духовный «роман» с ангелом дошел до такого накала, что я начал бояться за свой рассудок. Мне казалось, что он шепчет мне в уши, будя по утрам, что ночью из окна до меня доносится не шорох шин, а шелест его одежд… Чтобы избавиться от наваждения, я решил сам изваять ангела, вступить в борьбу с ним, с отцом, доказать свое право на свободу, на душу.
Я нашел в лесу неподалеку от нашей дачи подходящий кусок дерева. Ежедневно я уединялся на даче и работал над ангелом. Родные не могли помешать мне, – у них были дела поважнее: продажа работ отца, реклама выставки и тому подобное. Они днями пропадали в офисах в центре города. Я был предоставлен себе. Наверное, если бы я попытался совершить самоубийство, они узнали бы об этом слишком поздно и сильно не расстроились. Свалившееся с неба богатство было им важнее, чем жизнь наследника.
Но работа не давалась мне. Казалось, что дерево само сопротивляется моим инструментам. Черты ангела были ясны для меня, когда я закрывал глаза, и расплывчаты, когда мои руки пытались передать их. Чтобы яснее запомнить не только облик, но и душу ангела, я стал чаще смотреть на изваяние. Статуя уже не так поражала меня, как в первый раз. Она казалась вычурной, сделанной в расчете на легкий эффект. Я много раз обходил вокруг нее, пытаясь представить анатомию ангела, и с каждым моим взглядом ангел терял часть своей загадочности.
Я вступил в состязание с ангелом. Я боролся с ним, как Иаков. Но не мог, несмотря на все усилия, представить его глаза... Возможно, дело в том, что верхняя часть скульптуры была слишком далека, чтобы я – близорукий, низкорослый – мог ее рассмотреть как следует. А может быть, дух сам прятался от меня, чтобы сохранить тайну.
Но, когда я возвращался на дачу и начинал работать снова, мои руки становились неумелыми. Я до синяков бил скульптуру руками. Я кричал на нее… Ангел не поддавался. Так проходил день за днем. Утром я беседовал с ангелом, мысленно боролся с ним, одерживая победы, а вечером унижался. Казалось, ангел мстил мне…
Постепенно в меня проникало холодное безразличие к своим усилиям. Боль уходила, и на ее месте оставалась пустота. Казалось, если бы ангел сошел ко мне на землю и замахнулся огненным мечом, я бы не испугался, а только спокойно взглянул на него, чтобы изучить его черты получше. Вся жизнь казалась миражом, проплывающим мимо меня. Неужели какая-то статуэтка вызвала такие перемены в моей жизни? Не знаю. Годом раньше, если бы мне сообщили, что со мной это произойдет, я бы просто посмеялся. Но равнодушие слепца – или серого ангела? – охватило мою душу.
И наконец, однажды, приехав на дачу, я подошел к своей поделке и осмотрел ее. Понял, насколько она нелепа. Я легко, словно играя, коснулся крыла резцом, и мне показалось, что из линии надреза течет живая кровь. Закрыв глаза руками, я почувствовал головокружение и покачнулся…
Что произошло дальше, я не помню. Вспоминаю только то, как пришел в себя на полу, а рядом со мной лежала сломанная фигура ангела. Я уже не ощущал в голове прежней боли. Сердце было абсолютно спокойно. Я встал и осмотрел обломки деревянной поделки. Они были так же безобразны, как сама работа, когда она была цела. Но на душе было легко, словно я освободился от давнего проклятия.
«Вот оно в чем, – подумал я. – Надо было сломать ангела – и он улетел бы! Я нанес ему удар, и он исчез. Но вдруг он снова вернется?...»
Моя душа перестала зависеть от ангела, словно кто-то отпустил обиды, нанесенные отцом и мамиными родственниками. Я мог спокойно думать о них, вспоминать свое детство, как чужую жизнь. Но у входа в свою комнату я поставил на тумбочке эту скульптуру – единственную работу отца, которая досталась мне и которую я не хотел продавать. Ангел сторожит вход в мой дом, оберегает мою жизнь и душу. Но иногда меня по-прежнему посещает страх – вдруг он отомстит мне за то, что я сломал его изображение?
75
ГОЛОС СЕРОГО АНГЕЛА
Человек, прими дар мой, прими талант, побеждающий сильных и сдающийся перед слабостью. Он поможет тебе победить всех врагов твоих, он сам придаст тебе силу. Ты победишь, но победа эта раздавит тебя своей тяжестью, и будешь ты побежден собственной победой, порабощен собственным даром.
Дар небес дается тому, кто лишен иных даров; свет небес дается тому, кто не способен видеть иного света; вера дается тому, кому не на что надеяться. Порой Господь нисходит к людям случайно, наделив верой лишь безбожника, только безумцу дав возможность нести груз гения – никто больше не может вынести этого.
Тяжесть дара велика, но без нее человек просто унесен был бы в небо в силу легковесности своей. Только тот, кто ничем не отягощен – ни весом, ни силою земною, – способен вынести тяжесть моего дара, ибо остальные просто раздавлены были бы двуединой тяжестью небесного и земного величия. Поэтому отринь все, что ты любил, все, что радовало тебя, все, что привязывало тебя к земле, – отныне только тяжесть моего меча будет удерживать тебя в этой жизни. Дар мой оправдывает это.
Подвиг твой будет велик, но ты не поймешь его. Ты не сможешь сказать: «Да, я сделал это»! Ты откажешься от любой награды, ибо за награду нельзя наградить, сам подвиг будет наградой твоей. В бою ты увидишь небо, и увиденный из земного ада свет очистит, но и опустошит тебя так, как не может очищаться и опустошаться человек, – вот что станет страшной наградой твоей! И ты освободишься от любой кары за преступление, ибо подвиг твой будет одновременно и преступлением, но за преступление, ставшее наказанием, я не накажу тебя повторно. Дар твой оправдывает это.
Ты будешь сражаться за людей, а люди будут сражаться против тебя; поэтому ты никогда не будешь одиноким, одинок только тот, у кого нет врагов, даже если у него множество друзей. Друзья твои станут считать себя врагами твоими, и ты положишь жизнь свою за враги своя; враги будут жить твоей жизнью, которую ты подаришь им, и не смогут понять тебя. Людям нужен подвиг героя, но сам герой не нужен и страшен им. Ты должен стать страшным – ты, никогда не внушавший никому ни малейшей боязни! И ты будешь обречен на это, ты не сможешь отступить. Дар оправдывает это.
Когда же подвиг твой будет совершен, славен станешь ты, и слава будет мучить тебя; полон сил станешь ты, и сила будет мучить тебя; полон разума станешь ты, и мысли вырвут тебя из круга жизни. Подвиг твой будет легок, когда ты творишь его, и станет не по плечам тебе, когда ты совершишь его; растаешь ты от его жара, окаменеешь от его холода.
И последнее, самое страшное свершение будет предначертано тебе – тебе, сверхчеловеку: отказаться не только от сверхчеловечества, но и от звания обычного человека, отдать меч своим врагам – и знать, что погибнешь от него. Ты умрешь от своего дара, ты умрешь от своего второго «я»! И в смерти ты не обрящешь исчезновения, ты будешь жить еще долго, лишенный дара, лишенный себя, лишенный своей головы. Ты с радостью примешь этот крест, зная, что люди никогда не смогут воспользоваться всем, что ты им принес в жертву.
Но твой дар оправдывает это.
78
ИЗ ФИЛОСОФСКИХ ЗАПИСОК МИХАИЛА ГЛИНСКОГО
Глупцы утверждают, что Земля круглая или плоская. И только я знаю, что наш мир имеет форму книги. Планета, которую Жизнебог предназначил нам для обитания, книгообразна: прямоугольна, одета в обложку и состоит из множества слоев-страниц. Мы живем внутри нее и путешествуем по ее страницам, перемещаясь в пространстве и времени. Мы перелистываем дни нашей жизни, перелистываем страны, города и годы, улицы, дома и этажи, друзей и врагов – все это становится частью нашего личного маршрута по страницам книги, которую мы читаем и одновременно пишем. Кто-то начинает читать эту книгу с конца, кто-то – с середины, а о Слове, которое было в начале, никто из нас не имеет точного представления. Знания каждого из нас о тексте этой книги обрывочны, мы можем прочитать только отдельные слова и из этих позаимствованных слов каждый составляет свой собственный текст. Так одна большая Книга распадается на миллиарды маленьких, пересоставленных из ее элементов. Может быть, эти маленькие книжки даже интереснее Великой Книги – точно сказать об этом нельзя опять-таки из-за неполноты наших представлений обо всем, что нас окружает.
А о том, что находится за пределами нашей Книги, мы вообще ничего знать не можем – скорее всего, другие книги-планеты, такие же, как наша, бороздят просторы вселенной, каждая по своей орбите, в строго выверенном порядке, под музыку прямоугольных сфер. И вечно бодрствует Космический Библиотекарь, ведущий учет этим книгам, снабжающий каждую номером и индексом и вносящий сведения о круговороте книг в природе в специальный каталог.
Но это все – догадки, мечты, иллюзии, а в реальности я могу говорить только о нескольких случайно прочитанных мной отрывках текста. Я, как книжный червь, ползу по страницам, впитывая в себя отравленную мудрость мира, и могу гордиться тем, что изучил и переварил то, что мне попадалось на пути, более тщательно, чем другие черви. Но будет ли это интересно Космическому Библиотекарю, когда он будет проводить дезинфекцию книг, я не знаю. Наш мир настолько сложен, что нельзя быть полностью уверенным ни в чем.
9
Последние годы я живу жизнью поэта – постоянно пью, тоскую, всем возмущаюсь, иногда что-то сочиняю. Время от времени пишу абстрактные картины – желтые треугольники и красные точки на сером фоне – и устраиваю их выставки, они вошли в моду, хорошо продаются и приносят больший доход, чем работа в редакции. Переживаю из-за измен моей любовницы Марины, но ничего против них не предпринимаю. Уходить от нее незачем – и некуда. Тонкое, упругое тело Марины стало берегом, к которому я пристал после долгого потопа. Я не могу уплыть отсюда, когда весь старый мир скрылся под волнами. Я эмигрировал в ее тело, пытаясь сбежать от себя самого.
Одновременно отвращаясь и увлекаясь Мариной, я молча прощаю ей и измены, и оскорбления. Они растворяются в моем сердце, подобно соли, которая, тая в воде, меняет ее вкус – навсегда.
В остальном моя жизнь пуста. Впрочем, я по сути не живу, а сокращаю свое будущее. Покоя у меня нет: в подводной темноте совести копошится что-то, не позволяющее жить, как раньше. Душа лежит во мне, как запас, отложенный на черный день, но время от времени напоминает о себе – властно, мучительно, сильно.
31
Мне в этом мире не столько тоскливо, сколько скучно. Скука, тошнотворная, мерзкая, липкая, окружает меня со всех сторон, обхватывает щупальцами, проникает вовнутрь, грызет изнутри и снаружи. Скука льется с небес потоками света, шелестит листвой на деревьях, ложится под ногами гравием. Нет ни неба, ни земли, ни города, ни людей, – только скука, из атомов которой, как я понял, был создан этот мир. Богу стало скучно одному, и он сотворил Вселенную из своей скуки. И каждый, кто увидел в этой жизни больше, чем ему положено, начинает понимать бесконечную скуку Бога, знающего все и пресыщенного всем. Бог – это не любовь, это скука.
7
Постоянное развлечение для сотрудников нашего журнала – мои конфликты с редактором отдела критики Эдиком Гофманом. Он не упускает случая, чтобы поиздеваться надо мной, подколоть, выставить посмешищем. Эдик – успешный карьерист и неудачливый поэт, его врожденный цинизм помогает ему в критике, но мешает в написании стихов. Он смог занять руководящую должность, заведует множеством значимых для города проектов, постоянно в делах, но его душа оказалась стерта этим успехом, как ластиком, с листа бумаги. А когда-то была у него душа, я помню, как он писал, когда мы вместе учились в универе и делились друг с другом мечтами о Всеземле!
Мне больно смотреть на Гофмана и видеть, как мой друг, ставший уважаемым человеком, перестает быть собой. Эдуард заматерел и обрюзг, с каждым годом он увеличивался в размерах, как резиновый чертик, надуваемый воздухом. Многих интересует, когда же он наконец лопнет от распирающей его важности. Эдик отрастил пышные усы, и его издевательская улыбка прячется в этих усах, как в кошельке, чтобы не оказаться истраченной без причины.
Произошли с ним и другие перемены. С возрастом он начал лысеть, его лицо медленно, но верно растет вверх, отвоевывая у шевелюры сантиметр за сантиметром. Кофе он пьет в таком количестве, что из человека превращается в подобие кофейни своего имени. Этот напиток стал основным стимулом и смыслом его жизни. Время, время меняет все…
Хорошую карьеру сделал он в свои сорок лет. Коллеги говорят о нем: у Гофмана глаз узкий, да зоркий, пальцы толстые, да проворные, всех в руках держит. Большими делами прославит себя Гофман. Большие дороги ему открываются. Но не с задором, а как-то потерянно, снизу вверх, смотрят узкие щелочки его глаз. Как будто он стыдится чего-то. Может быть, того, что с детства мечтал стать поэтом, творцом, но – не сбылось? Другие таланты, необходимые, чтобы выжить, убили главный. Борьба талантов – дело жестокое, в ней человек всегда проигрывает. И Гофман проиграл – разменял себя на звание ведущего критика цинического направления.
Несбывшаяся судьба – всеобщая боль человеческая. Слишком коротка наша жизнь, чтобы развить все таланты, хочешь-не хочешь, что-то драгоценное приходится зарывать в землю. А потом возвращаться в мыслях туда, где схоронил свое самое святое, прислушиваться к земле, слышать в ней шорохи и стуки и тосковать – без слез, глухо, дико, до воя, по-звериному. Тесно, нестерпимо тесно таланту, который просыпается в человеке, расталкивает его изнутри, раздвигая руками тесные стены, и властно повелевает – служить, работать, поработить себя ему! А некого порабощать. Нет человека. Есть муж, отец, госслужащий, гражданин великого государства – и только, а человека нет. Не хватает чего-то, что ни к каким определениям не сводится, ничем не руководится, но дает направление всей жизни.
И живешь однообразно и глухо, одними и теми же путями ходя на работу, беседуя с товарищами, хохоча над их шутками, давясь дымом сигарет, но иногда застывая от неожиданных сокрушительных звуков: это где-то т а м, в Несбывшемся, ты – другой ты – читаешь стихи, которые мог бы написать. Хотя их и нет, но они проходят сквозь твою жизнь, ты не можешь без них, а они без тебя. И только когда ты последний глоток воздуха выпустишь из легких, они умрут – захлебнутся наставшей в твоем мозгу последней тишиной. Прозвенят еще раз, просияют – и перестанут быть. И кому-то в небе станет горько, как будто сын умер. Как будто одним богом стало меньше. Как будто еще один мир не удалось сотворить. А сколько их – таких, несбывшихся… И сколько еще будет.
8
Мало победить, – важно не оказаться раздавленным и побежденным своей победой.
33
По неотзывчивому простору космоса торопливо несутся звезды и кометы. На окраине Млечного пути еле заметным огоньком светится Солнце. Вокруг Солнца кружится крохотный мячик Земли. На Земле, где-то в сердце или предсердии азиатского континента, на берегу сонной реки у окна в ресторане «Вечерний Пылежуйск» сижу я и лениво рассматриваю вселенную.
Что мне, литератору Алексею Темникову, до этого мира? Что этому миру до меня? Мне кажется, он существует только для того, чтобы войти в книгу – мою или чью-то еще, чтобы пестрый хаос жизни выкристаллизовался в чеканные словесные формулы, в стройные образы, которые переживут века. А сам по себе он не имеет никакой ценности – или ценен только как сырье для будущих книг.
Планета совершает круги вокруг солнца. Над Альпами горит закат, над Балканами клубятся тучи, в Москве моросит мелкий дождик, над Сибирью светит полуденное солнце, а жители Курил встречают рассвет. Это разные миры, в каждом их них царят свои законы. Все попытки свести их к единому знаменателю обречены на неудачу, но люди снова и снова пытаются сделать свой мир простым и цельным.
Я тоже хочу этого, но знаю, что эта цель недостижима, и не пытаюсь выдать желаемое за действительное. Как и должно быть, мои мечты остаются мечтами, а реальность – реальностью.
101
С недавнего времени в моей комнате завелось невидимое домашнее животное. Оно размером примерно с кошку, у него шесть крыльев, восемь лапок, три хвоста и маленькие рожки на треугольной голове. Мой новый питомец легко проникает сквозь стены и двери, без препятствий покидает квартиру и возвращается в нее, часто о его появлении меня оповещает звон специального колокольчика, повешенного мной у дверей. Нагулявшись, зверек трогает колокольчик, чтобы я понял, что он дома, и налил ему в блюдечко молока с сахаром. Одного блюдечка бывает достаточно, чтобы питомец оставался сытым весь день. Ему нужно не само молоко и не сахар – он питается тонкими энергиями, духами молока и сахара. Если блюдечко пустеет мгновенно, я понимаю, что энергетическая насыщенность трапезы была высокой; если молоко еще долго остается на донце, значит, готовя угощение, я не вложил в него достаточно чувств.
Иногда зверек играет в ветвях яблони за моим окном, я чувствую это по особенно нервному шелесту листвы. Яблоня явно не любит моего питомца. Впрочем, ее листва, когда в ней прячется мой друг, приобретает особый объем и выглядит почти воинственно, как шкура, вставшая дыбом. Иногда зверек прячется в коробках из-под обуви, мирно спит в них или сквозь дырочку наблюдает за происходящим в комнате. Как удивляются мои гости, когда невидимый питомец вдруг выскакивает из своего укрытия и с шумом пролетает под люстрой! Это существо многие слышали, а вот потрогать его никому еще не удалось. О том, сколько у него крыльев, лап и хвостов, я догадался, не видя, – подсознательное чувство убедило меня в том, каков необычный житель моей квартиры. Иногда мне бывает немного страшно находиться с ним наедине, но радость, которую я чувствую, когда невидимое животное, топоча лапками, проносится по потолку или за секунды выпивает теплое молоко из блюдца, перевешивает мои опасения. Безопасность – не главное, важнее, что я не один, что у моего жилища наконец-то появился свой гений места.
10
Если бы меня спросили, какое событие в моей жизни было наименее романтичным, я назвал бы свое первое свидание с Мариной. Тогда все словно специально происходило по самому прозаичному сценарию. Хмурым ноябрьским вечером я сидел дома один. Марина позвонила мне пьяная – она тогда только что развелась с мужем и заливала горе дешевым вином. Мы с ней были просто друзьями, бывшими коллегами – когда-то я преподавал английский в школе, где Марина вела физкультуру, наши кабинеты находились рядом, мы постоянно общались и незаметно подружились. Уволившись из школы, я продолжал время от времени созваниваться с Мариной и обсуждать свои и ее проблемы.
На этот раз Марина была настроена особенно грустно, она повторяла, что не знает, доживет ли до следующего года, что у нее в жизни нет никакого смысла, что ее все предали… Вдруг она прервала жалобы вопросом: «Давай я к тебе приеду?» Я сразу согласился. Простой вопрос требовал простого ответа. Марина спросила мой адрес, вызвала такси и направилась ко мне.
Находясь в пути, она раз пять мне написала, готов ли я, не свяжу ли ее, не буду ли мучить. Видимо, у нее был случай, когда она попала к БДСМ-щику. Приехала на полчаса позже, чем обещала, в стельку пьяная, еле стояла на ногах. Смотрела на меня пьяными невидящими глазами – с любовью и ненавистью одновременно. Сбросила в прихожей обувь, одежду, трясла передо мной грудью: «Ты хочешь? Хочешь?» Хохотала: «Может быть, скоро ты захочешь меня убить!» Быстро нырнули в постель, любовь была нервной и короткой, Марина почти сразу уснула, я лежал рядом и смотрел на нее – она была действительно красива: рыжие волосы, миндалевидные глаза, курносый носик, длинная шея, маленькая, но приятная на ощупь грудь, удачно помещающаяся в ладони… Луч луны полз по комнате, рисуя узоры на теле спящей… Она лежала, откинув руки за голову, и храпела. Сырой, протяжный храп портил все впечатление. Я пытался растолкать ее, но она не просыпалась. «Ты будешь спать здесь? Тебе же завтра на работу!» - будил ее я. «От тебя и пойду на работу,» – сквозь сон прохрапела Марина. Обалдеть, значит, завтра на работе все узнают, что у нас роман!... Значит, это не секрет. Значит, намерения самые серьезные!... Я встал, попытался в темноте сфотографировать спящую Марину, чтобы было чем потом похвастаться перед друзьями, но на фотоснимках отображались только черные квадраты. А при свете луны все было абсолютно ясно видно! Я пошел на кухню, разместился там на диване и попытался уснуть – один, без надоедливого храпа над ухом. Сон не шел, диван был жестким, я лежал и размышлял о нашем с Мариной будущем.
В три часа ночи в прихожей послышались шаги, я увидел в дверном проеме мелькающий свет – Марина освещала телефоном сумерки вокруг себя, пыталась узнать, где она находится. Я подошел к ней и напомнил, что произошло. «Господь! – перекрестилась она. – И что же ты меня не разбудил?» «Я пытался, но ты не просыпалась…» Матерясь, Марина наскоро оделась, вызвала такси и поехала к себе домой, на другой конец города, чтобы принять душ, позавтракать и сразу же выехать оттуда на работу, рядом с моей квартирой.
Значит, наши отношения еще остаются секретными. Она меня стыдится? Даже если так, я не против. Пусть все продолжается, как есть. Будем встречаться тайно. Мне не нужна огласка и официальное признание статуса и взаимных обязательств.
Успокоенный, я забрался в освобожденную Мариной постель, под два одеяла, и сразу уснул.
Тогда мне приснился один из самых мерзких снов в моей жизни. Снилось, что я вытаскиваю из могилы, из-под земли, труп Марины и насилую его. Я помню ее тело во всех деталях – холодное, серо-зеленое, грязное, кое-где покрытое чешуйками (она человек или русалка?); трупные пятна уже проступили на груди и бедрах, и я яростно впивался в них зубами. Лицо – тоже серо-зеленое, холодное, покорное, отстраненное, глаза закрыты; я знаю, если они откроются, под ними будет сплошная тьма. Я не смотрел на лицо, меня интересовало только тело, я хотел познать его полностью, языком, губами, облизать, зацеловать… Войти в нее, проникнуть, восторжествовать над нею! И я восторжествовал. Она не человек, она русалка, она ведьма, она смерть, которую я хочу, хочу, хочу! И если понадобится, готов жизнью за это заплатить – за торжество над ней! За полную власть, которая бывает только над трупом… Но как только это осуществить… Мерзкие сны – мое второе я, они преследуют меня, и я не могу от них оторваться, я чувствую к ним отвращение и одновременно упиваюсь ими, чувствую наслаждение от своего отвращения к ним, наслаждение, доходящее до дрожи! Потому что это – я сам…
21
Выход в бесконечность за пределы своей личности есть только в любви. Но в любви есть не только божественное, но и демоническое начало. Без него любовь была бы бесплодна. А без божественного – разрушительна.
Любовь, как и красота у Достоевского, есть таинственная вещь. В ней тоже дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей.
11
А ведь было в моей жизни что-то чистое… Была по-настоящему чистая любовь. Аталанта! Моя главная победа и потеря. Мой глоток воздуха, мой вечный возврат к себе. Мое внутреннее небо… Пока я тебя не знал, я жил, только предчувствуя себя – и Тебя. Только когда мы встретилсь, я понял, что значит быть живым, ощутил мир вокруг как нечто одухотворенное. Пред-чувствие и со-чувствие к миру, к настоящему и будущему – через тебя…
Ты была деревом, которое плодоносило, когда я касался его ствола. Древом, росшим – ветвями – из неба, а не из земли. А я был Небом, наполненным водой, питающим твои небесные корни. Через тебя я слышал благо-словение, а ты получала благо-дарение – слышала Слово, главное Слово. То, которое стало плотью, а плоть – Словом.
Наша любовь – дар судьбы, дар и поручение. Небесные корни, питаемые небом и дающие ему смысл.
Мне нравится хеттская легенда, что небо каменное. Каменный полет... В каждом камне спит полет. Горы, дворцы и храмы – пробуждение этого полета. Я лечу к Тебе, не двигаясь с места, как небо. Я хотел бы слиться с Твоей жизнью, почувствовать Тебя изнутри, как воздух, проникающий в тело, как свет, как электрические импульсы. Чтобы вселенский ток прошел сквозь нас.
Ты – между мной и Богом. Не преграда, а посредник. Через нас идут вселенские токи – в словах и мечтах. «Бездна бездну призывает голосом водопадов Твоих…»
Ты – мой полет, я – твой простор. Пусть мы разлучены и вряд ли увидимся, но каждое наше мгновение остается со мной. Наше прошлое и есть настоящее – единственное настоящее. Наша встреча, произошедшая в переломный момент жизни, остается вечной, вне времени, в ней мы продолжаем разговор о главном. Во всем, что я делаю, пишу, рисую, участвуют две души – моя и твоя, и под всем, что создано мной, должны стоять две подписи. Я не знаю, пишешь ли ты в своем далеком далеке, но чувствую, что в том, что ты создаешь, продолжает биться мое сердце, отзываться эхо наших встреч.
Моя непобедимая Аталанта! Ты всегда остаешься со мной, потому что ты – это я. Мне достаточно знать, что ты есть, – значит, есть и я. Значит, я могу продолжать жить, дышать, работать – во имя Твое. Во имя нашей встречи, придавшей смысл двум жизням.
И вместе с тем – больно понимать, что наши отношения были только виртуальными, что мы видели друг друга лишь на экране монитора… Ты занималась на моих онлайн-курсах и обратилась ко мне, чтобы я отредактировал твой сборник. Пока мы работали над книгой, мы почувствовали, как духовно близки друг другу, ты понимала мои мысли раньше, чем я их высказывал, и я всегда чувствовал малейшие движения твоей души… Мы начали посвящать друг другу стихи, игриво переписывались, посылали многозначащие эмодзи. На твой день рождения я посвятил тебе длинное стихотворение, полное намеков. Через два дня состоялся онлайн-разговор, который определил мою жизнь. Ты вышла на связь из кухни, качество видео было плохим, я помню размытое изображение твоего лица, непричесанные волосы, темные пятна глаз. Мы долго не могли выйти на главную тему, пока я не задал прямо вопрос: «Идет ли речь в ваших стихах о чувствах ко мне?» Ты опустила глаза, отвела лицо в сторону и глухо выдохнула: «Да…» Я был потрясен, я с самого начала понимал, что виртуальная любовь – это в первую очередь мечта, гипотеза любви, а не доказанный факт, и надо было мне, как Онегину, ответить: «Умейте властвовать собою, к беде неопытность ведет». Но я чувствовал, как тебе плохо, что твоя жизнь пуста, что ты, может быть, на грани самоубийства, – и ответил, что наши чувства взаимны.
Сначала я только согласился подыграть тебе, но уже через несколько недель каждодневной многочасовой переписки понял, что по-настоящему не могу без тебя. Я не имел (и до сих пор не имею) точного представления о твоей внешности, камера на телефоне и ноутбуке всегда изменяла пропорции твоего лица, но твоя душа, тонкая, нежная, трепетная, слилась с моей, я полюбил твою душу, не зная точно, как ты выглядишь! Наше ежедневное общение, исповеди, обращенные друг к другу, стали наркотиком, к которому мы оба привыкли и который стимулировал нас к жизни в трудное время. Даже боль, которую принесла нам разлука, может быть, нужна была, чтобы отвлечь нас от других, более страшных переживаний! Все это сейчас понятно мне. Но избавиться от зависимости я не могу, даже осознав ее. Никто так не соприкасался с глубинами моей души, как ты!
Через несколько дней после нашего объяснения ты предложила своему мужу развестись. Обо мне ты не говорила ни слова, но он сразу все понял и начал устраивать сцены ревности. Говорил, что твое увлечение нездорово, что ты просто выдумала меня, что встреча со мной сначала вызовет у тебя эйфорию, а потом разочарование, и он не может позволить тебе пережить это. Он читал твою переписку, каждая смска от меня вызывала грандиозные скандалы. О мирном разводе не могло быть и речи. И ты, и я, и твой муж были на грани безумия. Через несколько недель постоянных скандалов ты решила сбежать от мужа, из своей собственной московской квартиры, с маленьким рюкзачком за плечами, якобы в кафе, фактически в аэропорт, чтобы улететь ко мне в Сибирь и остаться здесь навсегда – этот план мы придумали вместе! Я купил тебе билеты, ты их распечатала и положила в рюкзачок. В ночь перед побегом твой муж перерыл рюкзачок и нашел билеты. Скандал последовал грандиозный: он разбудил тебя, кричал, тряс перед тобой билетом, порвал билет, отобрал паспорт, чтобы ты не смогла улететь, в ярости попытался покончить с собой у тебя на глазах! Ты успела отправить мне смску: «Все пропало». Я позвонил тебе, твой муж взял трубку и объявил, что убьет меня или покалечит. Твой голос был еле слышен на фоне его криков. Я побежал в церковь, к своему духовнику, и спросил его, что делать. «Не связывайся ни с замужними, ни с разведенными. Они своего мужа предали и тебя предадут. Разумная жена устрояет дом свой, неразумная ищет чужого», – объяснил ситуацию священник. «Но я ее просто жалею, ей с мужем плохо, не погибнет ли она без меня?» – спросил я. «Христианин не должен жалеть никого. Жалость – нехристианское чувство. Милость и жалость – это разные вещи. Христианская любовь безжалостна», – ответил мне духовник. Смысла этих слов я не понял и не понимаю до сих пор, но покаялся в грехах и принял причастие.
Тем же вечером, когда я бежал из церкви домой, ты позвонила мне снова – твой муж разрешил тебе поговорить со мной в последний раз, чтобы попрощаться. Я был зол оттого, как нелепо все вышло, – я влюбился в женщину, которую ни разу не видел, и расстаюсь с ней, не успев даже встретиться! Я остаюсь брошенным, как шут гороховый… Я хотел сказать тебе, что больше не хочу тебя слышать, но понял, что не могу. Что ты слишком много значишь для меня! Не ты сама, а наше общение, разговоры, стихи, переписка! И я был ласков во время нашего звонка, даже тогда, когда ты предложила мне вернуть деньги за билеты на самолет. Я решил, что мы продолжим общаться тайно! И почти целый год после этого, всю весну, лето и половину осени, ты каждый день убегала от мужа, формально на прогулку, и выходила со мной на видеосвязь из интернет-кафе. Мы обсуждали любимые книги, беседовали о философии, посвящали друг другу стихи. Из стихов, которые мы написали за этот год, я составил большой сборник, в котором на равных звучат оба голоса, мой и твой, причем мои стихи по манере часто неотличимы от твоих – так я проникся твоими интонациями. Эта работа была прекрасна, мы писали все новые и новые стихи – сонеты, триолеты, терцины, рондо, гекзаметры, верлибры – и чувствовали себя Данте и Беатриче, в самый темный час истории провозглашающими начало новой жизни.
Вместе с тем весь этот год я продолжал вполне прозаичное общение с Мариной, она время от времени звонила мне, часто пьяная, и предлагала приехать, мы встречались, занимались любовью, ненавидя друг друга по-человечески и притягиваясь друг к другу физически. Марина знала о тебе, ты – о Марине, но никакой ревности вы обе не испытывали. Марина не верила, что можно по-настоящему любить ту, кого не разу не видел, а у тебя могла вызвать ревность только духовная измена, тем более что физически ты время от времени вынуждена была исполнять супружеский долг. Таким был наш странный союз, сохранявшийся в течение года, от ноября до ноября.
Не знаю, как могли бы объяснить эту историю психиатры, но благодаря ей моя жизнь наполнилась новым смыслом, получила новое измерение – моя душа нашла продолжение в твоей, я вышел за пределы своей ограниченной личности и понял, какое это счастье – жить не только собой, но и кем-то другим, любить кого-то больше, чем себя. Это поток свежего воздуха, врывающийся в твою грудь, в твое сердце из чужой души, это ощущение того, что ты не ограничен собой, что ты бесконечен… Является ли это чувство здоровым по меркам современной науки, считающей эгоизм нормой, я не знаю, но именно оно озарило всю мою жизнь, уже много лет я не могу забыть его и думаю, что нежности и тепла, полученных в наших беседах, мне хватит на всю жизнь.
А с Мариной я сплю до сих пор, хотя о браке мы с ней и не думаем, друзьями себя не считаем и более того – всеми силами души презираем друг друга. Между оторванным от жизни поэтом-философом и пьющей учительницей физкультуры не может быть ничего… кроме секса. Которого тоже может хватить на всю жизнь.
26
Есть люди, для которых одиночество – тюрьма, есть особи, для которых оно – хобби. Я принадлежу и к тем, и к другим. Экскурсии в свой внутренний мир я совершаю, вооружившись до зубов, ищу чего-то, что было во мне с детства потеряно, и ничего не нахожу, кроме грызущей пустоты.
Пустота проникла в меня, заполнила мое тело, мою жизнь, приняла форму поэта и человека, раба божия Алексея Темникова. Пустота просыпается по утрам от нудного звона будильника, чистит зубы, принимает стандартный завтрак, не ощущая вкуса, смотрит телевизор, принимая в себя поток новостей и не наполняясь от этого. Пустота ходит на работу, убивает там часы в сумасшествии тихом, на автобусе возвращается домой и садится ужинать. Пустота живет, притворяясь человеком, не обращая внимания на сотни других пустот, мелькающих рядом. Все, что проникает в пустоту, становится пустотой. Пустота побеждает все – и страдает. Она помнит о времени, когда еще не была пустотой. Ей хочется иметь имя, судьбу и сущность. Но все это ей утрачено.
В борьбе с собой всегда сам себе проиграешь, а вот выиграть у себя почти невозможно. И платить по счетам все равно придется, рано или поздно. Сколько ни прячься от совести – все равно отыщет. Даже во сне от нее не скроешься: придет, замаскировавшись доброй мамой, поцелует в темечко, а затем стукнет – всю жизнь потом головой мучайся.
Но можно чувствовать угрызения совести – и спокойно делать людям гадости, быть совестливым эгоистом. Боль, которую я чувствую, думая об этом, тоже мне тайно приятна. Как любому порядочному Скорпиону, мне ничего не надо для счастья, кроме как почаще жалить себя в голову. Это и стало моей жизнью. Или нет? Я, может быть, и не живу по-настоящему. Но живешь ты или нет, умирать придется все равно.
19
Моя Аталанта, мы навсегда останемся вместе – там, где нас нет, там, где есть только слова и звуки. Наша любовь хотела стать больше, чем любовью, она хотела стать религией, но в итоге осталась только литературой. Это было самое сильное чувство, которое я испытал в жизни, но я сомневаюсь в реальности – не этого чувства, а себя. Наша мистическая связь – это настоящая любовь выдуманных людей, литературных персонажей.
Кто выдумал нас? Любовь. Пространство, изнемогающее от пустоты, содрогнулось, и в нем зазвучали два голоса – мой и Твой. Голоса облеклись плотью, стали людьми, рвущимися друг к другу, но изначальная пустота довлела над ними. В конце концов голоса затихли, плоть стала дымом, остались только слова, слова, слова. Остались Твои письма, написанные на синей бумаге, летящим почерком. Остались Твои подарки – глиняная белочка, чайник в форме феникса, стальное кольцо одиночества на моем безымянном пальце, кольцо, которому не дано ни разомкнуться, ни стать золотым. Остались Твои стихи, Твой голос, звучащий в моей памяти – я до сих пор отвечаю ему, и подо всем, что я пишу, должно стоять два имени – мое и Твое.
Встретимся ли мы снова, когда-нибудь? Может быть, мы так и останемся книгами, лежащими на разных полках? Или нам дана будет встреча? Иногда я представляю себе мужчину, похожего на меня, и женщину, похожую на Тебя. Они идут по многолюдной улице, которой на самом деле нет, заходят в несуществующее кафе, садятся за соседние столики и замечают друг друга. Я, которого нет, молча киваю Тебе, Ты, которой нет, улыбаешься мне, мы пишем друг другу одинаковые записки и передаем через официанта. Нам не нужно садиться рядом и долго разговаривать, мы все знаем без слов. Главное сказано, об остальном лучше молчать. Кафе, которого нет, растворяется в воздухе, и наши двойники прекращают свое существование. Они были нужны только для того, чтобы встретиться, кивнуть и улыбнуться друг другу.
Как хороша жизнь, как хорошо, что наши голоса все-таки зазвучали. Пусть слово не стало плотью, оно все равно – Бог. Плоть развеивается, время и пространство перестают быть, но Твой голос продолжает звучать. Я исчезаю в звуках Твоего голоса, становлюсь облаком, камнем, пеплом. Меня нет, и я снова могу жить спокойно.
24
Мужчина любит женщину, потому что видит в ней загадку, женщина любит мужчину, потому что думает, что понимает его.
12
Твой муж. Коренастый, плечистый, круглоголовый. Словно лишенный лица – глубоко посаженные глазки-щелочки и маленький курносый нос терялись на фоне широких плеч и массивного затылка. У них действительно был характер, было выражение, и по выражению плеч и загривка можно было понять, что у него на душе. Он был похож на крота – скрытный нрав, исчезающие глаза, подвижный нос, чуткий нюх (как он мог чувствовать все, о чем ты думаешь, что собираешься предпринять!) и мощные когти, умеющие рыть землю и рвать врагов. Слепой Крот, укравший мою Дюймовочку.
Как он изводил тебя, каких только видов шантажа не использовал, чтобы тебя удержать! Меня он не пытался запугивать, он понимал, что это не подействует, ему верила только ты. Как он чувствовал на расстоянии, что у нас на душе, как обнаруживал тайные сообщения, как предугадывал наши встречи! Закрытый от всего мира, обозленный на всех, несчастный человек, готовый на все, чтобы только сохранить тебя! Он бил ниже пояса, не стесняясь ничего, он проявлял виртуозную хитрость.
И он победил! Ты осталась с ним, оставила свою страну, работу, родственников, все, что у тебя было. Вы уехали в Германию. Он до сих пор припоминает тебе побег и устраивает сцены ревности – домашний тиран, которому ты доверилась! Я иногда думаю – может быть, он действительно сильнее, чем я, любит тебя и потому победил? Но, даже если он прав в своих целях, он неправ в средствах. А мы с тобой – наоборот. Средства, которые мы использовали, были чище нашей цели.
Мы все были правы в чем-то и все заслуживаем прощения, но от этого не становится легче. Когда никого нельзя обвинить, боль становится только сильнее. Ты не была виновата, когда в трудный момент бросилась ко мне, – это было совершено от избытка сердца. Я не был виноват, когда ответил на твои чувства, – мне было сказано, что ваш развод легко достижим, я не мог проверить это, а когда все выяснилось, было уже поздно. То, что ты вернулась к законному мужу, я тем более не могу поставить в вину – это абсолютно правильный поступок. И от этого становится только больнее – почему любовь обманула нас?
Почти все, что я любил в жизни, обмануло меня. Я любил искусство, искал в нем полета, а нашел каждодневный бескрылый труд и слова, слова, слова, которые могут только обжечь, но не согреть. Я любил природу – она прошла мимо меня, прекрасна и бездушна, как кукла. Я любил женщину – и эта любовь принесла нам обоим боль, от нее остались только воспоминания, письма, подарки и книжка стихов, которую я даже не могу опубликовать. Остался труд и бессмысленная долгая дорога.
И больнее всего то, что я не могу обвинить никого ни в чем, даже себя. Все решили обстоятельства, условности, смягчающие вину участников любовного треугольника, но не уменьшающие боли.
14
Формула общения. (Повторять при любом конфликте). Я — живой человек, и ты — живой человек. В твоем лице я общаюсь с бесконечным миром, отличным от моего, столь же бесконечного, но связанного с ним. Определять, кто из нас лучше, все равно что сравнивать бесконечность с бесконечностью: это так же бессмысленно и бесплодно. Если ты причиняешь мне боль, то я вспоминаю, что одна бесконечность не может отменить или уничтожить другую. Если я причиняю тебе боль, то я ограничиваю изнутри свой мир, лишаю его бесконечности, замыкаю себя в себе. Но я понимаю, какое это высокомерие — полагать, что человек может обидеть человека, что обидчик — сильнее обиженного, и каюсь в грехе. Я всеми силами стремлюсь, чтобы бесконечность моего мира продолжала бесконечность мира твоего, а не противопоставлялась ей.
13
Скажи мне, что ты думаешь о своих врагах, – и я скажу, кто ты.
15
Ветер. Дым. Хруст. Хруст льда под ногами. Хруст переломленных веток, строк, жизней. Ветер сбивает с ног… Я бегу домой по хрусткому льду, теряя дыхание. Рука леденеет на ветру. В ней дрожит твой голос в телефонной трубке, щекочет ухо, мурлычет, звенит, греет, спасает… Мы говорим в последний раз. Мы прощаемся…
С детства я окаменел и не боялся холода. Почему же именно сейчас мое сердце оттаяло, когда материки снова укрываются льдом – надолго, может быть, навсегда?
Лед под ногами, лед в глазах людей вокруг – все трещит, скользит, оплывает, в сердцах людей сдвигаются ледники, над головой трескается и плывет куда-то Северное Ледовитое небо, материки сдвигаются с места, а в моих висках звенит льдинкой тысяча первое эхо вселенского оледенения.
51
ИЗ ДНЕВНИКА СНОВ АРКАДИЯ РУДНИЦКОГО
Снилось: я играю в бильярд с кем-то, чьего лица не вижу. В моем поле зрения – только зеленое сукно и шары, поднять голову и посмотреть на Соперника я боялся. Видел только его руки – серые, жилистые.
Шары словно сами летают под моими руками, и я слышу голос Соперника – голос без голоса, без тембра и интонации, он словно звучит внутри меня: «Ладно, пока что ты выигрываешь, за тебя есть кому молиться, но рано или поздно ты все равно достанешься мне».
16
Я разучился жить, родная. Я сплю весь день и под вечер выхожу из дома, в ледяной, скользкой тьме, угрюмо пробираюсь вдоль чуждой мне жизни, по снегу и льду. Подворотни скалятся на меня, окна смотрят тусклыми глазами, ночь дышит мне в лицо, и я боюсь взглянуть в глаза изменившегося мира – большие, злые, неприветливые.
Я пробираюсь во тьме, между льдом надо мной и льдом подо мной, и всем своим существом, глазами, кожей, ноздрями ощупываю февральский воздух – ищу твое присутствие. Ищу тебя – и нахожу весну, растерянную, живую, нежную. Она наивно, как бродячая собака, подходит ко мне в темноте – к тебе она тоже сейчас подходит – и тычется носом, осторожно смотрит на нас, боится, надеется и ждет. Она испугана, но хочет верить нам, она замерзла и ждет нашего тепла. Без нас весны не будет, я верю в это.
Прости меня, но я буду тебя ждать. И не только ждать – я буду искать тебя. По дрожи пальцев, по биенью сердца, по оторопи, охватившей тело, я чувствую, что ты тоже думаешь обо мне. И я шепчу, что благодарен этой пронзительной весне за холод и простор, за острый и жестокий ветер, за то, что впервые в жизни я боюсь и что этот страх – не за себя.
Я жду тебя. Я хочу быть с тобой. Прости меня, но я хочу тебя. Прости, но счастье ждет нас обоих. Оно боится нашей встречи, но ждет ее сильнее, чем мы сами. Нас ждет весна – одна на двоих.
А без тебя весны не будет.
108
Прости, но я не могу забыть тебя. Сейчас, в канун годовщины нашего объяснения, подай мне ладонь, чтобы мне было легче переплыть нашу разлуку и встать на берег тишины. Там, в своем просторном одиночестве, чувствуешь ли ты меня, помнишь ли обо мне? Может быть, иностранная речь шипами колет тебе кожу и обжигает лицо… Но мои слова, сказанные три года назад, до сих пор сохраняют силу, до сих пор звучат. Я жду тебя… Мне холодно одному среди бескровной северной весны, но холод, окружающий меня, – это твой холод. Всем расстоянием, разделяющим нас, всей силой разлуки, ее оборотной стороной – ты со мной, во мне, навсегда. Наша встреча состоялась, и ничто не в силах ее отменить. Мы навеки останемся в ней. Поэтому не стоит воспевать разлуку и очаровывать песней мертвые камни. Если мое одиночество, как и вся жизнь, посвящены тебе, они не пусты, ведь все вокруг меня и во мне – то же, что и в год, когда ты слышала меня. И пусть вокруг тебя – другая, не столь холодная, не по-русски гостеприимная весна, – в этой иной весне носи на безымянном пальце незримое кольцо памяти. Памяти о том, что мы когда-то были.
17
Небо вечно помнит о каждой упавшей звезде.
125
А все-таки в этом мире чего-то не хватает.
124
А что, если…
22
Сегодня гулял в окрестностях дома Марины. Хотелось вспомнить о наших коротких встречах полгода назад.
Панельные дома, цветущие яблони, лужи во дворах. Густые заросли на месте детских площадок. Подъезд Марины, находящаяся напротив него дверь пивоварни… Неожиданно в моем телефоне появилось сообщение от Марины: «Как дела?» «Гуляю рядом с тобой», – ответил я. «Где это?» «В твоем районе. За три дома от твоего». «Зачем приехал?» «Случайно, сел в автобус, и он меня сюда привез. Я и решил – поброжу, повспоминаю о тебе». «А что дальше делать будешь?» «Пойду на трамвай, наверное. На нем домой поеду». Марина прислала мне еще одно сообщение, но я не успел его прочитать – мой телефон разрядился. Разговор не был завершен. Но мне показалось, что Марина давала мне надежду на встречу! Я побежал от трамвайной остановки к дому Марины, мимо которого прошел минут десять назад, – вдруг получится продолжить беседу у нее дома?
Я подбежал к дому, дождался, пока из подъезда выйдет соседка, и проскользнул в открывшуюся дверь. Марина жила на первом этаже, ее дверь оказалась передо мной. Я нажал на кнопку звонка, ответа не было. Я нажал снова, потом постучал в дверь рукой, ногой. Марина не открывала. Я хватался за телефон, пытался его оживить, снова принимался названивать и колотить в двери, раздосадованный, выходил из подъезда, дожидался, пока меня снова впустит какой-нибудь сосед, и опять начинал ломиться к Марине… Прошло около двадцати минут. Черная железная дверь отвечала молчанием, лестничная клетка была пуста, весь мир вокруг был ко мне равнодушен. Я плюнул и пошел на улицу.
Дойдя до торгового комплекса на автобусной остановке, я попросил сотрудника ларька зарядить мой телефон. Пока шла зарядка, бесцельно бродил по торговому центру, примеряясь к покупкам, в одном из ларьков приглядел недорогой школьный глобус и зачем-то купил. С глобусом в одной руке и с заряженным телефоном в другой вышел из торгового центра и сел в автобус. В телефоне обнаружил несколько сообщений от Марины. Она не могла мне открыть, потому что у нее дома был сын. Обычно этот чудный мальчик жил с дедушкой и бабушкой, но иногда его отпускали к Марине погостить. Я так и не знал, известно ли ему о моих отношениях с его мамой. Марина заставляла меня скрывать все, но несколько раз предлагала позаниматься с сыном английским языком. Скорее всего, он должен был о чем-то догадываться, даже если мать ничего ему не говорила.
«Сегодня я не могла тебя пустить. Если хочешь, встретимся завтра в нашем сквере», – подытожила Марина. Я обрадовался: она все-таки хочет меня видеть! А ведь могла бы вызвать полицию или психушку, когда в двери полчаса ломятся, это вполне допустимо… Или она не хотела привлекать ко мне и к себе внимание? Если бы меня увезли, весь дом говорил бы об этом… Может быть, Марина просто не хотела позориться.
23
На следующий день я приехал в сквер у дома Марины. Подруга встретила меня на остановке, быстро поздоровалась, подхватила за руку и потащила в глубь сквера: «Ну, пошли». Она шагала быстро, не оглядываясь, я еле поспевал за ней. Сойдя с одной из людных аллей, Марина остановилась в ложбине среди густых зеленых кустов.
«Вот хорошее место. Со стороны ничего не видно. Тут прошлой осенью нашли три трупа, два лежали здесь, а один вот здесь, – она небрежно махнула рукой. – У одного трупа была отрезана кисть руки. Никто ничего не увидел, пока снег не стаял».
Я огляделся: сквозь кусты за спиной Марины были видны аллеи парка, бегающие дети, гуляющий пенсионер с собакой. Над головой моей подруги поднимался к майскому небу ствол березы, слегка изогнутый, словно пытающийся взлететь. За моей спиной, над ямой, в которой нашли трупы, поднималось другое дерево, высокое, узловатое. «Что это за дерево?» – спросил я. «Вяз. Священный вяз», – объяснила Марина. – «Это священное место. Чувствуешь, какая тут энергетика?» «Чувствую. Прямо из земли бьет. Долго не забудется», – меня трясло от возбуждения. – «Не удивительно, что тут нашли трупы. Это было жертвоприношение. Их духи до сих пор тут живут».
Марина смотрела на меня снизу вверх критически-сострадательным взглядом, словно хотела спросить: «Ну что, идиот, ты этого хотел?» Она распахнула поношенное черное пальто, обнажила грудь. Я с наслаждением лизал ее тело, целовал родинки и прожилки на груди, урча от удовольствия. Кожа Марины была на удивление нежной и чистой, словно сияющей – о таких девушках говорят: «Кровь с молоком». Прикоснуться к ней было наслаждением. «Эй! У тебя вроде пятно там, внизу», – Марина указала на мой брючный ремень и полезла к нему руками. Я опешил: все-таки рядом дети играют и этот старик гуляет с собакой… «Может, пойдем на чердак?» – робко спросил я. – «Если у тебя дома нельзя…» «С полными дебилами я не хожу на чердак», – гордо огрызнулась Марина. – «Таких, как ты, я вожу только в кусты. Или никак».
«О женщины! Вам имя вероломство!» – сказал Шекспир. Но неожиданность была бы для них более точным именем. Никогда не знаешь, чего ожидать от той, кого любишь… Любовь – это всегда в некоторой степени лотерея: влюбляешься в один образ, а девушка в итоге оказывается другой. И, как правило, намного хуже, чем ты сначала думал.
53
Окружающий нас мир по природе инфернален. Человек – только часть этого мира, внешне ничтожная, но разумная, осознающая инфернальность мира, свою беспомощность и вынужденную порочность.
Есть три точных определения человека: человек – это мыслящий тростник; человек – это мечтательный хищник; человек – это существо, ко всему привыкающее. Но к естественному отбору человек привыкнуть не может. Он приспосабливается к нему, но продолжает мечтать о лучшем мире.
Инферно заставляет человека искать выход и создавать в своем воображении Образ Совершенства, а затем воплощать его вокруг себя. Результаты работы зависят от характера созданного образа и от характера практических действий. Иногда человеку удается действительно сделать мир лучше. Прогресс есть трансляция человеческого идеала на бесчеловечный мир, очеловечение, одухотворение окружающего нас пестрого Ничто.
Долг человека – подвиг мысли и творчества, очеловечение хаоса. Это сложный процесс, это трудный рост. Но рост и обязан быть медленным, быстрый рывок к гармонии был бы губителен.
Царствие Божие, мечта о мире без смерти и насилия – над нами и внутри нас. Оно есть высшая реальность постольку, поскольку не воплощается в инферно, но руководит нашим очищением.
Человек есть нечто, что должно превзойти. Он должен преодолеть свою природность, свою инфернальность, укротить дьявола в себе, чтобы овладеть его силой вне себя и достичь гармонии. Если нельзя уничтожить черта, заставим его служить себе! Слетаем на нем в Иерусалим! А что, хорошая идея. Как свидетельствует история, вполне реализуемая! В отличие от рая на земле.
80
Иногда мне кажется, что я не один, что на самом деле меня четыре. Существует четыре человека, живущих одновременно, абсолютно похожих внешне и внутренне, но только одному из них дан Голос. Остальные просто живут, храня в душе неоткрытым кладом все, о чем мне дано сказать в моих книгах. Один я живу на берегах Байкала, другой – на крайнем Севере, в Норильске, третий – у Балтийского моря, в Калининграде. Один – банковский клерк, второй – бухгалтер, третий – журналист. Три моих двойника не подозревают о том, что тот, в ком сходятся смыслы их судеб, живет в середине евразийской степи и пишет о них, за них, вместо них.
Но все мы одинаково любим Аталанту. Даже если не знаем, кто она такая.
97
ПАМЯТИ ДВОЙНИКА
Сегодня я прощаюсь с частью себя, с тем, кто носил в себе мою радость и боль, любовь и горечь. Он был не простым отражением, а живой сущностью, противоположной мне и повторявшей меня. Мы оба любили Ее — ту, чье имя у нас на устах звучало, как молитва. Аталанта стала центром двух Вселенных, моей и его, но эти вселенные были разного размера и воевали друг с другом.
Мы оба шли к Ней на поклон, впитывали Ее мудрость, слушали Ее слова. Но насколько болезненными для Нее были столкновения двух космосов, которые она освещала! Ее ровный свет от этого превращался в нервное мерцание, в испуганные блики огня. Как материя и антиматерия, рождающиеся от одного источника, при встрече стремятся уничтожить друг друга, он пытался избавиться от меня, свести к нулю духовное начало, которое я воплощаю. Глядя на него, я понимал, каким я мог бы стать и каким не должен становиться. В моей ненависти отражалась его ненависть, в его злобе – моя злоба! И его усилия по моему уничтожению были так велики, что он сам растворился в них, распался на части, отрицая меня, разрушил себя самого. Но, когда пришел его час, он забрал с собой частичку меня. Мне без него стало сложнее продолжать разговор с Аталантой!
Теперь, когда я вспоминаю о нем, я чувствую боль – я потерял не просто двойника, но и второго себя. Вечная память тому, кто жил, любил и страдал в тени моего существования.
36
ПСАЛОМ СОМНЕНИЯ
Господь и Бог мой, Жизнь моя! Я — тростник надломленный, не переломи меня; я — лен курящийся, не угаси меня! Я верю, Ты есть… Ты есть. ТЫ ЕСТЬ!
Но есть ли я?
Я — не боец, я только поле боя жизни и смерти; пусть меня растопчут, выжгут, опалят изнутри бойцы, чтобы я стал пустым и чистым, чтобы во мне не осталось ничего, кроме Жизни!
Жизнь, тяжела чаша твоя, и горек и солен напиток в ней, и от него только возрастает жажда; но я выпью эту чашу, ибо жизнь — сама себе жажда и вода, и быть лишенным жажды жизни — хуже, чем не иметь насыщения. Но, если есть жажда, то где-то есть и вода, не морская, а родниковая, и надо только дойти, только дождаться явления ее…
Жизнь, сохрани меня хотя бы до этого мига. Дай дотерпеть… Дай дотерпеть.
И я обращаюсь к тебе с простой молитвой: Жизнь, сохрани себя во мне, привяжи меня к себе крепкой цепью, настолько крепкой, чтобы я стал свободен!
99
АПОЛОГИЯ КОНЕЧНОСТИ
Я просыпаюсь. Грею чай в сковородке. И пытаюсь отыскать в стакане свои носки. Застегиваю часы на ноге и заправляю постель в брюки. Солнце в окне привычно слепит глаза. Башка вот-вот развалится на тысячу маленьких головок… Вот он, новый день моей жизни, – такой же, как предыдущие, и не такой. День, полный спешки, суеты, хлопот… и мысли. День, рассыпающийся на мгновения и собираемый воедино силой памяти. День обычного удачливого неудачника. День городского философа.
Из таких дней состоит жизнь. Дней очень много, у всех людей они разные. А суета сует – одна на всех. И себя в ней одинаково теряют все люди. Каждый человек распят во времени, растянут по семи десятилетиям своей жизни, и ему постоянно хочется свернуться, собраться. Для этой цели – собирания человека – и служит культура, возделывание себя.
Но добро и зло в обыденной жизни не собираются в единое целое. Это частички мозаики, которые часто не совпадают. Смещение (и смешение) добра и зла присутствует в природе изначально.
В отличие от животных, человек есть существо дробное, он всю жизнь живет поделенным на себя. И ему свойственно стремление к цельности, к обретению целостного опыта нравственного бытования. И в поисках этого опыта он встречается со смертью – явлением изначально цельным, неделимым, более того – непроницаемым.
При этой встрече многие его убеждения, казавшиеся априорными, оказываются опровергнутыми. Так, оказывается, что общей для всех смерти не существуют, небытие есть личное достояние каждого. «Умирает каждый в одиночку». Вот черт, а? Хорошо сказано! Жалко, что не мной.
У каждого человека есть свое Ничто, и каждый человек представляет из себя цельность только наедине со своим индивидуальным Ничто. Сознание своего пребывания на грани небытия придает ощущению жизни особую остроту и заставляет активнее искать в ней смысл, а в случае отсутствия такового – конструировать новый.
Поэтому людям и необходима Апология конечности. В ней конечность человеческого бытия снаружи выступает как условие бесконечности внутри. В тесноте семидесяти земных лет, отпущенных для жизни, человек начинает осознавать ту моральную бесконечность, которая открывается в нем, и ощущение собственной одинокости позволяет ему понять свой подвиг – он один противостоит небытию. Победить здесь нельзя, но можно не сдаться, продолжить битву и умереть человеком, а это уже немало. В этом плане осознание собственной смертности есть путь к обретению цельности наедине с индивидуальным Ничто.
То, что понимает человек, постигнув свое Ничто, весьма и весьма безотрадно. Подлинное счастье всегда трагично, потому что совершается на фоне Небытия. Это счастье понимания своей правоты на фоне своей конечности.
Трагическое счастье есть счастье осознания своей правоты, своего морального самостояния во благе – вопреки неизбежности физического поражения. Это счастье «наперекор», веселость перед лицом смерти. Это понимание того, что ты не побежден, что ты – не предатель, что ты – прав.
Наш мир жесток и бессмысленен. Он создан не для нас, и мы не являемся венцом творения. Попытки навязать миру нашу логику и наши нравственные представления неизменно заканчиваются неудачей – как минимум логической. Но это не значит, что мы должны сдаться и жить по звериным правилам. Мы все-таки люди, и мы обязаны жить и умереть по-человечески – делая добро, каждым своим поступком сражаясь с окружающей нас жестокой реальностью. Победят ли другие, те, кто придут после нас, – мы не знаем. Нам это и не особенно важно. Это не наше дело. Наше дело – на том клочке времени и пространства, который нам доступен, наполнять мир смыслами, очеловечивать его. И в бескорыстном совершении добра мы видим наш вызов природе и смерти, моральную победу над ними. Когда ребенок, которому мы принесли радость, улыбается нам, – мы счастливы, и рай уже внутри нас. И нам все равно, есть он за гробом или нет. Эти утешения мы оставляем эгоистам, ждущим за все награды, а мы – бескорыстны и счастливы самим фактом существования относительного добра хотя бы на коротком отрезке жизни.
Мы пережили и перестрадали в этой жизни слишком многое, и нам, изведавшим все и разуверившимся во всем, дана в полной мере суровая свобода и гостеприимная бесприютность трагического счастья.
137
Если долго смотреть в бездну, покажут мультик.
38
За окнами моросил серенький мелкий дождик. В кружках на столах дремал простывший сладкий чай. Срочной работы на сегодняшний день не было… Все вокруг располагало к философствованию. Этим и занимались два человека в вязаных свитерах – красном и синем, сидевшие за главным редакционным компьютером. Их лица были бы абсолютно идентичны, если бы первый из них, прозаик Виктор Тетеркин, не обладал необычайно длинным сизым носом, а второй, Эдик Гофман, – большими пышными усами.
Гофман говорил быстро, четко и тонко, так мог бы заговорить оживший калькулятор. Он рассказывал о том, как недавно познакомился с интересным человеком. Знакомство произошло в трамвае. Эдик ехал через Казачью слободу – обширный район, состоящий в основном из деревянных изб, дореволюционных и ранне-советских. Человек, сидевший рядом с ним, указал рукой за окно и сказал:
– В этом доме, где сейчас хинкальная, до революции была табачная фабрика. А во время гражданской войны здесь печатали деньги белой России. Здесь же набирали фронтовую газету, ее редактором был Василий Янчевецкий, который потом стал советским писателем – Василий Ян, роман «Чингисхан», помните? А оформителем газеты был художник Иванов, сейчас известный как скульптор Шадр, тот самый, который «Булыжник – оружие пролетариата». А у нас он за несколько лет до этого проектировал памятник Лавру Корнилову…
Лекция незнакомца заинтересовала Гофмана. Трамвайного краеведа звали Михаилом Ивановичем Глинским, он был историком, философом и астрологом, когда-то защитил кандидатскую диссертацию, в настоящее время на пенсии по инвалидности, увлекается поиском необычного в нашей жизни – «всяческих нескучностей», как он говорил. «Интересуюсь только интересным» – было девизом Глинского. Несколько дней назад он скачал в интернете дореволюционную карту города, из которой можно много узнать о судьбах старых зданий и живших в них людей. Прямо в трамвае выпросив у Эдика его электронный адрес, он сбросил ссылку на эту карту в облаке.
Приехав домой, Гофман с интересом изучил карту. На ней было отмечено много исторических зданий, о многих из них он раньше уже читал. Были и пометки, вызвавшие вопросы, – так, деревянный дом в Казачьей слободе, находившийся через дорогу от дома прабабки Гофмана, был отмечен знаком «0».
Эдик написал трамвайному философу, что это означает? В ответном письме Глинский обстоятельно ответил, что в этом доме собирается его философский кружок, «веселое братство», секта поклонников Великого Нуля. «Это интеллектуальный рай. Мы собираемся по четвергам, обсуждаем книги, пишем стихи, разыгрываем представления. Все абсолютно бесплатно и очень интересно. Приглашаю». К письму был прикреплен документ, озаглавленный –
СИБИРСКАЯ КУЛЬТУРА И ПОФИГИЗМ
Сибирская культура но не для того лишь, чтобы так, а только ради того, чтобы все, а поскольку все, то и я. Точнее говоря, это не то, что вы, а то, что вообще-то. А вообще-то мне пофиг объяснять, что я тут хотел сказать. А хотел я сказать вот что.
Сибирь есть центр величайшей из мировых религий, которой принадлежит будущее, половина настоящего и девять десятых прошлого, – Священного Пофигизма. Это учение, пока еще мало кому известное, уже умудрилось оказать решающее влияние на русскую и сибирскую литературу. Для того, чтобы объяснить роль пофигизма в литературе Сибири, следует сделать небольшой экскурс в историю пофигизма как основной мировой религии.
История секты Великой Фиги уходит в глубокую древность. Еще во время строительства Вавилонской башни среди строителей выделились две секты, которые впоследствии сыграли решающую роль в судьбе человечества. Первая секта – это масоны, вольные каменщики, которые готовы были на любые жертвы для постройки своей башни. А вторая – это как раз пофигисты, которым строительство было по-фигу. Они и разрушили башню.
Обе секты создали свое тайное мировое правительство. Борьба этих двух правительств стала стержневым моментом человеческой истории. Разумеется, пофигисты давно могли бы победить масонов, но это не состоялось до сих пор, поелику пофигистам их победа тоже по-фигу.
Верховным богом пофигистов является Великий Ноль, Божественный Бублик, символ небытия и блаженства, которое у членов секты точнее называется нестраданием. Именно внутри дырки, в центре священного кольца, образованного Великим Нулем, и находится наша вселенная. Пофигическое отношение к безобразиям, творящимся на земле, согласно учению секты, размыкает Великий Ноль, освобождает титаническую энергию счастья, находящуюся в нем, и помещает адепта в центр мироздания.
Поэтому символом пофигической религии и стала эмблема Великого Нуля, внутри которого находится кисть человеческой руки, изображающая одноперстие (большой палец между указательным и средним). При встрече адепты зигуют друг другу фигой, и через сложенные пальцы в них проходит небесная энергия Великого Нуля.
Секта Нулепоклонников сыграла значимую роль в русской и мировой истории. Первым профессиональным пофигистом на Руси был новгородский князь Гостомысл, призвавший на Русь из-за границы варягов Рюрика, Трувора и Синеуса владеть и править нами. Благодаря ему пофигизм стал краеугольным камнем российской государственности. Впоследствии именно пофигисты организовали монголо-татарское иго и ввели на Руси крепостное право.
Вклад пофигистов в русскую историю бесценен: Великим магистром ордена Священной Фиги был Михаил Илларионович Кутузов, сдавший французам Москву и спасший Россию. Галерея «лишних людей» в русской литературе была первым в истории систематическим изображением адептов пофигизма.
В начале ХХ века пофигизм начал проникать в искусство. Главным тайным пофигистом Серебряного века был Казимир Малевич, «Черный квадрат» которого стал знаменем победы пофигизма над реализмом в русском, а затем и в мировом искусстве.
В настоящее время тайной столицей мирового пофигизма является сибирский город П. Его администрация в течение четверти века тайно исповедует пофигический фундаментализм и планирует распространить его на соседние регионы. Целью мирового правительства является превращение собственного города, а в случае удачи данного эксперимента – и всего остального мира в Великий Ноль. В нулестроительстве региональное правительство весьма преуспело: достаточно упомянуть знаменитое метро, состоящее из одного подземного перехода. Метрополитен, который есть, хотя его и нет, является своего рода коаном, используемым для постижения бессмысленности здравого смысла и преодоления эвклидовского разума.
Европейцы, попадавшие в Сибирь, нередко испытывали культурный шок от местного пофигизма. Тем не менее более глубокое знакомство с глубиной и красотой пофигистического миросозерцания заставляли некоторых из них оставлять христианство и обращаться в фиговую веру. Так поступили многие из декабристов, на собственном опыте постигшие вред слишком серьезного отношения к жизни. Ф.М.Достоевский на каторге оказался в священном средоточии религии Всемирного Нуля, что повлияло на его мировоззрение: увиденная им плоская бездна устрашила его и заставила всю дальнейшую жизнь с помощью креста бороться против Торжествующей Фиги. Антон Палыч Чехов, проезжая через Сибирь на остров Сахалин, случайно столкнулся с порталом иной реальности – именно в Великом Нуле пропала калоша, которую великий писатель потерял в томской губернии. Она первая встречает всех, кто приобщается к мудрости Божественной Дырки.
Гражданская война в Сибири чуть не превратила страну в Великий Ноль. Адмирал Колчак умудрился одновременно послужить и поссориться с обоими тайными мировыми правительствами – масонским и пофигистским. Величайшим пророком и гуру пофигизма при дворе сибирского диктатора был мозг Сибири Антон Сорокин, устроивший за год тридцать три скандала Колчаку. Адмирал, усердно обращаемый пророком в веру Божественной Фиги, смотрел на эти скандалы сквозь пальцы. Это во многом и определило его конец: упав в черные воды Ангары, тело адмирала провалилось в Великий Ноль.
В настоящее время пофигизм растет и ширится, постепенно оккупируя русский язык, и ему, несомненно, принадлежит будущее.
В качестве приложения к данной статье привожу основные заповеди и лозунги пофигизма. Они были высечены на первоначальных Синайских скрижалях, которые разбил Моисей. Их можно было бы восстановить, но всем было пофиг, и их содержание передавалось устно, из поколения в поколение. Сибиряки, выросшие в 90-е годы, впитали их с молоком матерей.
1.Улыбка – наш рулевой!
2.Пофигисты – ум, честь и совесть нашей эпохи!
3.Пофигист – друг человека!
4.Пофигизм принадлежит народу!
5.Партия сказала: «Надо!» Народ ответил: «Пофиг!»
4.Жить не по лжи! Жить фигово!
3.Пофигята – дружные ребята!
2. Прячьте детей от пофигистов! Прячьте пофигистов от детей!
1. Пофигисты всех стран, соединяйтесь! А кто не с нами – нам пофиг!
0. Пофигизм – невсерьез и навсегда!
-1. Урря, товарищи!
Заинтересовавшись эксцентричным философом, Гофман решил посетить собрание его тайного общества и пригласил зайти друзей по редакции. Виктор Тетеркин категорически отказался, а я был рад хоть как-то отвлечься от своей тоски. В следующий четверг я на красном трамвайчике приехал к указанной на карте избе.
41
В обществе глупцов быть умным глупо.
40
Вечер выдался дождливым, я пришел к философской избе весь мокрый и долго мялся в сенях, не зная, куда повесить тоненькое, не по погоде, пальто. Пришедший за минуту до меня Гофман быстро перехватил его из моих рук и пристроил на еле заметный гвоздик, вбитый около двери.
Я прошел в комнату для собраний, в которой оказалось темно, лампочки из люстры перед встречами братства предусмотрительно выкручивались. В темноте было видно, что стены избы увешаны полуабстрактными картинами. Круглый стол в центре комнаты был освещен зеленым торшером. На столе стояли ваза с фиолетовыми розами, тарелочки с нарезанными сыром и колбасой и бокалы с самодельным напитком, напоминавшим вишневый морс, только чуть хмельнее. За столом сидели братья и сестры, пришедшие раньше меня. Они проводили в избе Глинского долгие часы, листая альбомы китайской живописи или сборники стихов, спорили о судьбах мира, ругались и мирились, устраивали обряды и представления, часто комичные. Веселые братья любили юмор.
Скорее всего, незадолго до моего прихода они основательно переругались. В комнате царила настороженная тишина. Поэтесса Лена Игумнова, прозванная в кружке Ледой, вертела пальцах бокал и меланхолично улыбалась. Чуть ниже среднего роста, с длинными русыми волосами, круглыми «гипнотизирующими» глазами, вздернутым носиком, пухлыми губами, Леда легко производила впечатление на мужчин. Говорила она обычно громко, резким, гортанным голосом, по-актерски расставляя паузы, сохраняя стальное сияние в глазах. Умение произносить речи делало ее влияние на людей еще сильнее. Ей нравилось нравиться, это было заметно всем.
Рядом с Ледой откинулся на спинку стула коренастый сутулый юноша со сросшимися бровями – Константин Тугарин. Он угрюмо молчал, сверкал глазами и изредка отпивал по глотку из своего бокала. Константин был из нищей семьи. Его отец, несостоявшийся художник и состоявшийся алкоголик, умер, когда Косте было одиннадцать лет, мать-туберкулезница – двумя годами позже. Это не помешало мальчику получить хорошее образование. Еще в дошкольном возрасте Константин делал рукописные журналы, заполнял тетрадки репортажами о выдуманных событиях, рисунками и стихами. Из-за этих журналов его и приняли в лучшую в городе школу, которую он окончил в пятнадцать лет. В девятнадцать, уже имея высшее образование, он устроился в газету, в двадцать один возглавил при ней литературную студию, в двадцать пять открыл издательство, приносившее неплохие доходы. Стихи он писать перестал, но всегда мог точно оценить любое стихотворение, никого не обидев. «Людей надо посылать вежливо, тогда они сами побегут, куда сказано, и всю жизнь будут тебе благодарны».
Интересы Тугарина были разносторонними: кроме умения вежливо посылать людей, он владел джиу-джитсу, мало ли что случится, бизнесмен должен уметь постоять за себя. Друзей у него было мало, по-настоящему он доверял только ручной крысе Ларисе, которую нашел, когда она была еще крысенышем, приручил и выкормил. Часто он приходил на собрания с крысой в кармане, она вела себя образцово и не высовывалась, когда не зовут. Если Тугарину хотелось произвести впечатление, она выскакивала из его нутра, ошарашивая окружающих. Ларисе не нужны были знаки, она чувствовала желания хозяина крысиной телепатией.
Пока я знакомился с Ледой и Константином, в предбаннике заскребся новый гость, библиотекарь Аркаша Рудницкий, он же Аркан. Высокий, выше меня, блондин, он был настолько тощ и начитан, что мог бы заменить закладку в каком-нибудь фолианте в своей библиотеке. Нескладный Аркаша был у Глинского кем-то вроде шута, над поступками которого можно сначала посмеяться, а потом задуматься.
Аркадий пришел не один, а с новой подругой, студенткой Надей. Худенькая, угловатая, бледная, в цветастом платке, широком (мамином или бабушкином) пальто и заснеженных валенках, она нелепо смотрелась в интерьере философской избы. Я услышал, как Гофман шепнул Леде: «Аленушка пришла».
Надя успела написать тетрадку плохих стихов и пыталась изображать гения, как она его себе представляла.
– Я пишу не сама. Мои стихи сами себя пишут. Я во сне слышу голос, просыпаюсь и записываю. Утром читаю и удивляюсь. У вас, наверно, так же? – пищала она.
– Да, да. Я тоже вчера написал под диктовку из космоса. Только еще не прочитал, – Гофман вытащил из кармана записную книжку. – Вот, послушайте.
В посаде, куда ни одна нога
Не ступала, лишь ворожеи да вьюги
Ступала нога, в бесноватой округе,
Где и то, как убитые, спят снега, –
Послушай, в посаде, куда ни одна
Нога не ступала, одни душегубы.
Твой вестник – осиновый лист, он безгубый,
Безгласен, как призрак, белей полотна!
Илья заглянул через плечо друга. Листочек в книжке был пустой. Гофман читал Пастернака по памяти.
Надя слушала булькающее чтение Эдика, и ее глаза становились все шире. Она поняла, что это и есть настоящая поэзия, но почему – ей было непонятно. Но сейчас надо молчать, разбираться будем потом. Главное, что поэты приняли ее и читают стихи. Дальше будет легче.
Рудницкий стоял у книжного шкафа, угрюмо листал альбом Чюрлениса и переминался с ноги на ногу. Его глаза нервно поблескивали, но он не произносил ни слова. Аркаша не хотел позориться ни перед Надей, ни перед друзьями.
– Вы мои стихи уже слышали. Может быть, прочитаете что-нибудь свое? Мы хотим услышать, что вам диктует космос, – предложил Эдик.
Надя хихикнула, потерла нос и скрипучим голоском прочитала:
Ночь и тишина кругом,
Спит давно усталый дом.
Только я давно не сплю
И в окошечко смотрю.
Мне о счастье говорят,
А его все нету.
Где ты, счастье, где ты?
– Ну, братья и сестры, что скажете? – прогудел из темноты Глинский. – Говорите все, что думаете, не бойтесь. Главный принцип нашего литературного объединения – пусть восторжествует правда, даже если погибнет жизнь!
– Я думаю, эти стихи останутся навсегда, – лицо Гофмана было непроницаемо серьезным. – Как у Пушкина. «Я вас любил». Слова самые простые, но в них найдена поэзия. Я думаю, все, что мы пишем, с этим не сравнится. Особенно мне нравится, как Надежда читает. Намного лучше, чем пишет!
Лицо Наденьки сияло.
– Да, да… Спасибо… Спасибо, что поняли. Я всегда знала, что мои стихи останутся, их не забудут! Я чувствовала… Спасибо вам! – она спрятала лицо в ладонях.
Из мрака снова зазвучал голос Глинского:
– А я думаю, что эти стихи – не Надежды. Человек так не напишет. Это пишет космос! Он милосерден и не хочет нас утомлять. От хороших стихов устаешь, вот он и дает нам отдохнуть и диктует иногда что-нибудь такое. Я только сейчас понял, что это тоже – оттуда.
Надя продолжала пламенеть. Рудницкий, сгорбившись, зло смотрел на соседей. Глинский смотрел из темноты, как филин, и в его глазах плясали огоньки.
Балаган должен был продолжаться. Гофман объявил, что раз в месяц веселые братья проводят древний обряд, поедание розы, и сегодня как раз тот самый день. Надя осторожно согласилась поучаствовать. Фиолетовый букет, украшавший стол, был разобран, розы высыпаны на поднос, зажжены парафиновые свечи, в бокалы налита самодельная бурда. Включив в телефоне музыку Курехина, медленно, в загадочном молчании, братья отрывали лепестки и причащались. Леда делала это медленно и величественно, как актриса, Тугарин – хмуро и сосредоточенно, Гофман – загадочно шевеля усами. Мистический полумрак, треск свечей, запах парафина, космическая музыка, изображения Большого Взрыва на стенах – все создавало атмосферу тайны.
Финальную точку в мистериях братства обычно ставил Тугарин. Илья уже знал, что будущий властелин мира не любил заставлять ждать долго. Так случилось и в этот раз. Константин пошевелил плечами, и из рукава его мышиного пиджака на красную скатерть выскочила Лариса. Вид у крысы был нагло торжествующий, она повела в воздухе розовым носиком, почувствовала запах Наденьки, серой молнией взбежала ей на рукав… Наденька завизжала, отскочила от стола, сбросила молнию на пол и стремглав унеслась в прихожую. Глинский сосредоточенно слушал, как она мечется от стены к стене, всхлипывает, набрасывает полушубок, сует ноги в валенки, как за ней захлопывается дверь. Ему было приятно, что удалось сделать больно очередной глупышке. Издевательства над чернью были необходимы ему, чтобы почувствовать свой аристократизм, это было местью советскому общечеловеку за унижения, пережитые родом Глинских за семьдесят лет. Злорадство Михаила Степановича передавалось и его ученикам.
Рудницкий ринулся за Надей, не одеваясь, выбежал из избы, с улицы послышались крики и звук пощечины. Вскоре Аркадий вернулся, ввалился в избу, еле стоя на ногах, споткнулся о ножку стула и чуть не упал, оперся рукой о стол, схватился за сердце. Голова шла по кругу, дыхание перехватывало. Гофман схватил Аркадия в охапку и потащил во двор. Аркан почти не сопротивлялся. Остальные последовали за ними. Даже Глинский вышел, после учеников, и встал отдельно от всех, глядя на луну.
Аркадий стоял во дворе, поддерживаемый «братьями», и шумно дышал. Из-под его вязаного свитера выбивалась давно не стиранная белая рубашка. На прояснившемся после дождя небе сияла полная луна, окруженная нимбом. От этой красоты становилось легче, о том, что только что случилось, думать не хотелось. Прошлого и будущего не было, был только этот миг – прохладный, свежий.
Насыщенный озоном воздух привел Рудницкого в чувство, он успокоился, но сил говорить еще не было. Веселые братья тоже безмолвствовали.
– А знаете что, – нарушил тишину Гофман. – Давайте поклянемся в дружбе. Как на Воробьевых горах. В том, что такого, как сейчас, больше не будет. Что мы не подведем друг друга, не обманем. Как бы страшна ни была правда, скажем ее. Не бывает низких истин. Поклянемся луне, небу! В ненасилии, в честности, в жизни не по лжи. Давайте, а?
– Давайте, – хрипло сказал Рудницкий. – Ты, Илья, не против?
– Я только за, – Илья был рад, что вечер проходит интересно – поедание розы, торжественная порка и клятва на балконе. – Я всегда за.
– Вот и чудно. – Гофман поднял обе руки к луне. – Перед лицом этой луны, этого неба – клянемся жить не по лжи!
– Клянемся! – повторили веселые братья.
– Клянемся не обманывать, не разыгрывать, не предавать друг друга!
– Клянемся! – голос Аркадия снова набирал силу.
– Клянемся в ненасилии, дружбе, любви – ко всему на свете! Клянемся!
– Клянемся! – завопили все, включая профессора.
– А теперь выкурим сигарету мира! – Гофман на ходу придумал новый обряд. – Одну на всех. Лучше, конечно, трубку, но где ее взять…
Учитель вытащил пачку «LM», не торопясь раскурил сигаретку. Веселые братья наблюдали, как пульсирует алый огонек. Сделав пару затяжек, Глинский передал сигарету Эдику, Константину, мне и только после меня – Рудницкому. Глотнув дыма и закашлявшись, Аркадий протянул сигарету Леде. Чуть прикоснувшись к окурку губами, Леда запустила его в небеса: «Раньше били бокалы, а мы запустим к луне бычок. Еще один обряд». Учитель улыбнулся, это было артистично.
Луна смотрела на мокрые дворы, избы, гаражи и возвышавшиеся вдалеке сталинки, спортивные стенки и карусели, на людей, куривших во дворе. Все нелепое, что было раньше, казалось такой же сказкой, как и этот игрушечный пейзаж. А сказки, какими бы страшными они ни казались, всегда заканчиваются хорошо.
50
По воскресеньям «веселые братья» участвовали в поэтических чтениях на Люблинском проспекте. Воздух был пропитан волнением и надеждой, словно перед важным экзаменом. Мы по очереди поднимались на постамент чугунной Любочки и читали стихи зрителям – прохожим, студентам, пенсионерам. Кто-то запинался, краснея, кто-то читал уверенно. Стихи не уступали разнообразием палитре степного закатного неба: от любовной лирики до описаний серых городских окраин. Любочка, казалось, улыбалась, слушая нас. В этот вечер Люблинский проспект стал не просто улицей, а сценой, на которой поэты сменяли друг друга, каждый со своим голосом, стилем, историей. Ветер играл в листве, белые дома с зелеными крышами казались стихотворными строчками – их повторяющиеся башенки словно рифмовались друг с другом. Стихи становились частью города, а город – частью стихотворения.
А по гранитной мостовой, не замечаемая горожанами, проходила незримая процессия: музыканты, актеры, шуты и карлики, сановники в черных нарядах, всадники на лошадях, украшенные цветами колесницы, слоны с паланкинами на спинах. Они шли, видимые только поэтам, торжественно провожая умирающий день. Совсем рядом, за Любиной рощей, протекал Ганг, и паломники, пришедшие со всех сторон света, омывались в его священных водах и отдыхали в тени египетских и мексиканских пирамид. Все времена и страны соединились здесь, в захолустном городке в центре огромного материка, и каждое слово, которое мы читали, звучало сразу во многих пространствах и эпохах. Нас слушали Сократ, Лао-Цзы и Бодхидхарма. В закатном небе над нами проплывал облачный кочующий Царьград, небесные императоры и императрицы в пурпурных тогах и золотых коронах смотрели с облачных дворцов и башен на земной город, ставший стихотворением. Мы все жили в этом просторном обитаемом стихотворении, мы в нем родились, взрослели, любили и враждовали, бродили по его переулкам и создавали новые стихи, расширяя пределы нашего словесного мира. Каждое слово, произнесенное нами, добавляло к нашему городу-стихотворению по новой улице, каждая строка – по новому району. Поэзия росла и ширилась вокруг нас, все, о чем мы читали, становилось реальностью, частью города и мира.
Наконец куранты на фасаде одного из зданий пробили девять. Чтения закончились, пришла пора расходиться. Слово, на несколько часов ставшее плотью, облаками и камнями, снова развоплощалось. Автобусы привычно развозили поэтов по их адресам, тени прошлого и будущего покинули Люблинский проспект, только статуи Любочки, Степаныча и городового продолжали улыбаться чему-то. Омь медленно несла свои мутные воды, лишившись надежды впасть в Ганг, и облака, теперь необитаемые, хмуро смотрели на дома с зелеными крышами. Поэзия ушла с Люблинского проспекта, чтобы вернуться через неделю, и до следующего воскресенья наш город снова стал угрюмым и прозаичным.
42
Как я узнал от Глинского, одной из давних традиций его кружка были ежегодные чтения на бульваре Зеленом. Бульвар был особым поэтическим пространством, отдельным мирком, анклавом, еще в перестройку отведенным мэрией для творческой интеллигенции. Сооруженный на территории бывшего кладбища, он был застелен досками, когда они прогнивали или проламывались, взору открывалось то, что осталось от дореволюционных могил. Над дощатым настилом стояла череда похожих на виселицы черных арок, увитых лампочками. Вдоль бульвара стояли неприличной формы булыжники с выбитыми на них именами местных поэтов, а в конце пути посетителей ждал средней величины амфитеатр, над которым нависали оранжевые параллелепипеды с написанными на них теми же самыми именами. Уже больше десяти лет каждый год поэты собиралась на этом бульваре 25 июня, в день рождения главного классика местной поэзии, Игоря Коренева, забирались на амфитеатр и оттуда читали стихи озлобленным прохожим. Я был приглашен на очередные чтения.
Когда я подъехал на трамвае к остановке «Казачий рынок», мне издалека было видно, что на пустой аллее маячат несколько фигур – Глинский, Гофман, Аркаша Рудницкий. Также на Утро поэзии прибыли люди, ранее мне незнакомые – высокий одноногий пенсионер с тростью, по-голливудски сиявший вставными зубами, нервная миниатюрная студенточка, ни секунды не стоявшая на месте, ярко накрашенная дамочка в широких брюках-клеш (школьная учительница, как выяснилось впоследствии), пожилая сочинительница песен с гитарой и молчаливый толстяк с очках и шерстяном свитере, из которого во все стороны торчали оторванные нитки.
Оказалось, почти все они уже успели выступить, не дождавшись меня. «Солнце выглянуло, и мы ему прочитали стихи. Второй раз могло уже не выглянуть, – объяснил мне Гофман. – Не успели только Панька и Аркаша. Их сейчас и послушаешь».
На амфитеатр вскарабкался толстяк в свитере. На вид ему было чуть больше сорока лет. Упитанный, почти круглый, с приторной улыбкой во все лицо, он вытащил из портфеля заляпанную конторскую книгу и, держа ее почти перед носом, начал читать. (Я обратил внимание на его руки – пухлые кисти, длинные тонкие пальцы, длиннющие ногти, похожие на звериные когти).
– Это самый талантливый в городе поэт, Панька Гуляев. Почти гений. Редкий человек. Сволочь, но умница… – шепнул мне Глинский.
Гуляев читал, все глубже вдавливая голову в плечи, монотонно, не делая пауз практически нигде, но с небольшими завываниями в конце каждой строки. В начале чтения голос «почтигения» был писклявым, почти детским, но постепенно становился все глуше, ниже, монотоннее. Завершилась декламация чем-то вроде шаманского горлового пения. К этому моменту мы все словно вошли в транс от его чтения, покачивались, слушая этот долгий завораживающий гул. Павел уже закончил читать, а мы почти минуту молчали, потом невольно разразились аплодисментами. Почтигений смущенно улыбался во все просторное лицо.
После Гуляева на сцену во второй ряд поднялся Рудницкий. Было видно, что он еще под впечатлением и боится выступать. Немного заикаясь, он начал декламировать свои стихи. Чтение Рудницкого успокоило нас, словно после напряжения, которое вызвало выступление Гуляева, нам дали несколько минут отдохнуть. Только Рудницкий разнервничался еще сильнее, это все-таки было одно из его первых выступлений. Снизу было видно, что у него, стоящего на амфитеатре, дрожат колени. Спускаясь с помоста, Аркадий несколько раз метнулся вправо и влево и наконец сошел на землю со сцены прямо посредине, там же, где только что шествовал Гуляев.
Вальяжный Панька подошел к дебютанту, улыбаясь еще шире, чем обычно.
– Знаете, юноша, а вы очень талантливы. Вы пьете?
– Н-нет… – удивленно моргая, пробормотал Аркадий.
– А надо. С вашим талантом – надо. Я тут захотел одну глупость сказать, но не знаю, можно ли… А, ладно, скажу. Я хочу вам пожелать: вам скоро поднесут чашу с цикутой, так вот – когда вы ее будете пить, пусть она вам покажется медом.
Аркадий ничего не ответил, он словно остолбенел. Он смотрел прямо перед собой, слегка покачиваясь, моргал и шумно дышал. Гуляев принял этот гудящий столб в свои объятия, и два темных силуэта, одинаково длинных, но разной толщины, слились в один. Отлипнув от Аркадия, Панька хлопнул его по плечу: «Благословляю!», быстро пожал руки Глинскому, Гофману и мне и торопливо направился на остановку трамвая. Мне запомнились его вялое, холодное, почти бесплотное рукопожатие и прыгающая походка.
– Панька ушел, теперь нам здесь делать нечего, – подытожил Глинский. – Об этом утре мы долго будем вспоминать. Не бойтесь, Аркадий, он всем предсказывает смерть. Мне он когда-то напророчил, что я брошусь с моста… Он это говорит только тем, кто ему нравится.
Только что опомнившийся Аркадий не слушал Михаила Семеновича, он усиленно рылся в карманах своей куртки.
– Что такое? У меня пятьсот рублей в кармане лежало, смотрю – нет их… Выронил где-то, что ли? И откуда у меня этот значок в кармане, вот, на шпильке, в виде кактуса? Я об него палец до крови уколол…
– Значки – это Панькина страсть, – довольно улыбнулся Михаил Семенович. – Он, когда у кого карманы обчистит, всегда взамен денег кладет значок. У него этих значков огромная коллекция… Видна гуляевская манера. Панькин грех. Сейчас, наверное, курит сигареты, купленные на твои деньги. И пишет что-нибудь новое, про рыб, про кактусы или что-то еще…
– Он клептоман?
– Он свободный художник. И творит, что хочет. Если ты хочешь стать поэтом и жить с поэтами, ты должен будешь это полюбить. Не просто терпеть, а полюбить. И самому участвовать. С волками жить – по-волчьи выть. С поэтами жить…
Рудницкий продолжал покачиваться, хлопая глазами. Казалось, что шарниры, на которых он держится, вот-вот расшатаются окончательно, и детали Аркаши покатятся по дощатому настилу. Узкое лицо с темными кругами под глазами, карикатурно похожее на дворян Эль Греко, выглядело безвольным. Круглые очки еле держались на переносице. Глаза смотрели раздраженно и устало. Тонкая эстетская бородка бесхарактерно свисала с подбородка.
– Кто этот Павел? Я его почти не знал… Он совсем того, что ли? – тихо спросил я у Гофмана.
– Гуляев – очень редкий случай, – ответил Эдик, ухмыляясь в усы. – Ты можешь себе представить абсолютно свободного человека? В наши дни?
– Я? Н-нет… – пробормотал я. – Я и не задумывался, возможно ли это… А было бы интересно представить.
– Представлять не нужно, тебе его уже представили. Именно этот тип сегодня украл у Аркаши деньги.
– Гуляев? – я расхохотался. – Он? Свободен? От чего?
– От всего. От имущества. От любых привязанностей. От принципов. От любви, от совести. Даже от собственного таланта, который он не ценит ни в грош. От личности – у него каждый день новая личность. Таков его диагноз: абсолютно свободный гений. Это не шутка, его коэффициент интеллекта – 176… Он разведен с женой, бросил сына. Сын-подросток был убит в пьяной драке год назад, ему хоть бы хны. Сейчас живет у Галины Марковны, пенсионерки, которая на гитаре играла. Живет на ее деньги, иногда подворовывает. Наверное, и убить может, если в голову взбредет. Но не для выгоды, ради нового опыта – и только. А скольким людям он жизни спас! Несколько самоубийц были им отговорены от гибели! Только он о них не помнит. У него каждый день новая личность. Иногда он балуется – воскрешает мертвых, ходит по воде… Он – все и никто. Как Бог, который стоит за всеми злодеями и героями нашего мира, всем помогает, всех потом губит и никак себя не проявляет.
– Он бог? А по виду и не скажешь…
– Он не бог, он – все. Все, только не сразу. Сегодня он такой, как ты видел, а завтра может стать Гамлетом или Макбетом. Он когда-то был бизнесменом, у него было издательство, он печатал журнал, назывался «Кошмар зеленый», в честь нашего бульвара… Собрал со всех графоманов в городе деньги, чтобы их напечатать, и отдал деньги в фонд защиты амурских тигров. Полгода с ним никто не разговаривал, даже побить грозились, а потом новые скандалы возникли, и об этой истории все забыли. Как забыли – помнят, но не злятся. Сдали в архив. Поэты больше полугода чувствовать одно и то же не умеют…
Эта мысль задела меня за живое. Я, по-видимому не поэт. У меня слишком хорошая память. Я никогда не забываю ни своих обид, ни помощи, оказанной мне. Я помню каждого, кто за последние двадцать лет посмотрел на меня косо, и, будь моя воля, каждый из них бы сто раз кровавыми слезами облился. Но и каждый, кто поддержал меня в трудную минуту, на всю жизнь становится для меня священной фигурой, тем, кому следует служить. Я ценю человеческую поддержку… Если поэтам это не свойственно, я не поэт. С хорошей памятью поэтом не стать, а вот философом – вполне возможно.
144
Николай Степанович Таврович был статным седеющим мужчиной, сероглазым узколицым блондином, некогда – предметом воздыханий всех девушек Пылежуйска, а ныне – почтенным дряхлеющим львом. Его высокий лоб с большими залысинами, прорезанный только двумя-тремя глубокими морщинами, вежливо-холодные серые глаза, узкие, чуть кривящиеся в уголках губы выражали снисходительное презрение ко всему окружающему.
Он уже давно понял, что его лучшие годы, время его главных творческих и любовных побед безвозвратно прошло, но спокойно, отстраненно, неизменно царственно смотрел на суетящийся вокруг него мир, в котором ему отводилась все более и более несущественная роль. Его спокойствия это умаление на нарушало: он издавна считал аристократическое равнодушие к своей и чужим судьбам стоическим достоинством.
В семью он никогда не верил и потому не требовал от молодой супруги верности, – сам он в юности был бы на это точно не способен. Ему было достаточно, чтобы красавица Лиза появлялась с ним в свете, смотрела на него снизу вверх, была с ним вежлива и почтительна, а по вечерам иногда согревала его тело в супружеской постели. Этим он был вполне доволен… всем в жизни, очевидно неудавшейся, он был стоически доволен, но все-таки горько было ему наблюдать, как редеют белые прямые волосы, как медленно, но верно седеют виски, как тает его мускульная сила. Это было очень горько. Увы, все мы только гости в этом несносном мире.
Долгими осенними вечерами он любил беседовать со мной за кружкой пива. Сидя в кафе, мы полемизировали на самые отвлеченные темы. За словами наших споров росла, менялась, приобретала новые формы и очертания реальная жизнь.
Таврович постоянно описывал свою судьбу: как он творил, писал… и погиб. Как закончился в нем человек. Как он перестал узнавать себя в своих созданиях. Как не увидел себя в себе. Книга убила писателя, портрет уничтожил художника, отражение в зеркале убило человека.
– Хочешь, историю тебе одну расскажу, мно-го-смы-слен-ную? – захмелевший Таврович говорил, путая слова и сопровождая согласные бычьим мычанием. – Однажды, году этак в двухтысячном, приходит ко мне один нувориш, из новых русских. Новый-то новый, да уже весьма опытный, деньжищ – немерено. Приходит и говорит: «Сделай мне, мазила, портрет мой – из денег. Дам те мешок с долларовыми купюрами, а ты мой портрет из них на холсте выложи. Сделаешь, столько же заплачу, сколько на холст приклеишь». А вид у самого наглый-наглый, глазами зыркает, словно хочет пристрелить, если откажусь… Ну, нечего делать, взялся я за работу. Беру бумажки бандюка, клею их на холст, лицо с фотографии выкладываю. Стоял он у меня на картине, как на фотке, – нахлобучившись, руки в боки, брови в кучку и улыбка во весь рот: знай, мол, кто хозяин жизни, всей жизни-и-и!... – Николай Степанович даже негромко завыл, произнося слово «жизнь». – А в качестве фона для Хозяина – знак доллара. Большой такой, выложен стодолларовыми купюрами по пятидолларовому фону. Мне он все казался похожим на орудие пытки – вроде рыболовного крюка, на котором болтается олигарх …
Ну, кончил я работу, приехал Хозяин – картину смотреть. Полюбовался на холст, улыбнулся, хмыкнул, набычился затем, выписал мне чек на кругленькую сумму и говорит, значит: «Теперь мой образ этот?» – «Ваш, ваш, конечно», – я поддакиваю, а сам трясусь: явно вот-вот кошелек ходячий отмочит что-то. – «Так знай, Карандаш (это он меня так называл), если я его хозяин, то возьму вот и сожгу его! Пусть все знают, что у меня денег куры не клюют, все могу себе позволить!» Я аж замолчал, остолбенел весь: какая работа насмарку! А Хозяин взял картину, вынес во двор и поджег купюры, и сгорели бумажки на холсте, а он это все на камеру снимал. Вот так. Вот оно, Искусство! Только тогда я понял ему цену, понял суть его!... А ты, Алеха Муромец, ничего еще не понял, пока-а еще с полатей слезешь!... – Таврович сглотнул, и его полный боли взгляд устремился на меня. – Сгорел тот портрет… Сгорело время… И наша эпоха сине-красно-малиновая тоже сгорит и пеплом развеется. Все сгорит, все… Чистоплотно земля горит, хорошо. Вся падаль истлеет, одна безупречная чернота останется. И ТИ-ШИ-НА. Вот. И не спасет этот мир красота…
Я молчал, помня, что Таврович – случайный персонаж, не имеющий отношения к общему ходу событий моей книги. Поэтому на ее страницах он больше не появится.
43
Чтобы прославиться, мало иметь таланты – надо, чтобы они были тебе к лицу.
35
Во сне перед пробуждением я видел вселенную откуда-то сверху, из иных сфер. Похожим по очертаниям на человеческую ладонь казалось мироздание. На мягкой, туманной плоти пересекались светящиеся контуры млечных путей, орбит и траекторий; пальцы шевелились, как живые стержни мироздания. Перстни на пальцах искрились камнями, в которых пересыпались блики и искры – планеты, обитаемые и необитаемые. Среди них мельтешила крохотная, то теряющаяся, то возникающая из хаоса бирюзиночка Земли. Рука складывалась то двоеперстием, то троеперстием, и мир менялся от ее движения. А над этой колоссальной ладонью, в немыслимой лаборатории света, двигался маленький цветной куб, похожий на кубик Рубика.
Миром управляло движение его элементов. Все убыстрялось вращение кубиков в большом кубе, все стремительнее становилась перемена их конфигураций, все ближе их распад, все явственнее грядущая гибель этого мира – и рождение нового.
Мир был страшен, воистину страшен. Туман, ставший плотью, безвыходный, бездыханный, еле дрожал в сумраке. Яркая бирюзинчка Земли поблескивала сквозь него, неся наследие мысли, крови, чувства.
И земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною; и некто незримый носился над водою...
47
Кажется, я понял суть и причину бунта дьявола против Бога. Люцифер был создан как ангел-хранитель человечества, он имеет образ сферического сверхсущества, наподобие атмосферы охватывающего собой земной шар. Мы все находимся внутри него, дышим им, он охватывает нас изнутри и снаружи и имеет полную власть над нашими жизнями. Он должен был использовать свои возможности, чтобы беречь нас, но не захотел делать этого и взбунтовался – зачем? Я думаю, не ради власти над миром, которой он и так обладал, а ради свободы, ради независимости от Бога. Это был по-своему бескорыстный артистический бунт, бунт художника против учителя, великого творца против Творца абсолютного.
Оторвавшись от Создателя, Люцифер лишился связи с источником жизненной силы, которой обновляется все живое, – он лишился любви. С тех пор он ощущает внутри себя гнетущую пустоту, которую пытается восполнить энергетическим вампиризмом. Он поощряет людей испытывать друг к другу ненависть и другие порочные страсти, потому что питается энергетическими испарениями человеческих страданий и страстей. Когда грешники умирают, он заточает их души в своей утробе и медленно переваривает, ад буквально находится в утробе дьявола, как рай – в сердце Бога. И мы все, весь земной шар, находимся в этой утробе. Поэтому и сказано, что наш мир во зле лежит. И единственный выход за пределы небесной блокады – крест, прорывающий небо и возносящий нас в высоту. Уйти из истории можно только в могилу, вырваться из ее дурной бесконечности – только на кресте.
Вырваться – куда? В небытие? Или в другую бесконечность? Которая тоже может оказаться дурной? Увы, этого мы не знаем. Из этих краев к нам еще никто не возвращался. Остается только мечтать, наивно мечтать о лучшем из миров, медленно перевариваясь в кишечнике алчного демонического сверхсущества.
46
Добро должно быть не с кулаками, а с мозгами. Безмозглое добро с кулаками – штука опасная…
67
СОШЕСТВИЕ ВО АД
(Из проповедей Михаила Глинского)
Воистину, у каждого из нас есть свой ад. У эгоиста есть собственный ад, называемый любовью, а у любящего – личный ад, называющийся эгоизмом. Бедностью называется ад богача, страхом зовется ад стоика. И каждый носит свой ад с собой, как мешок со скарбом, на своем горбу.
И вовсе не нужно умирать, чтобы увидеть ад. Он есть у каждого из нас, мы не ищем его – он сам нас находит. Он может таиться в любой мелочи, он может возникнуть из пустяка – и разрастись, и овладеть всей жизнью человеческой. Но во благо или во зло дан он людям?
Как сброшу я ад свой со спины, если он своей тяжестью учит меня стойкости? Как я отрекусь от этой святой тяжести греха, если только благодаря ему я понимаю, что такое счастье и добро?
Святой не знает, что такое святость, как рыба не знает, что такое вода. Только во грехе можно понять ее. Так и счастье с горем: если бы не было счастья, люди бы не чувствовали себя несчастными; если бы каждый не носил с собою ад свой, то мечта о рае не поселилась бы в душах наших.
Ты мечтаешь о рае, – значит, ты несчастен. Ты знаешь добро – значит, ты его не имеешь или боишься потерять. Но как откажешься ты от этого знания?
Тяжело нести груз жизни на плечах своих, но без него ветры пустоты небесной унесли бы меня. Эти ветры пронзительны и сильны, и только сила горя человеческого способна противостоять им. За тяжесть эту – спасибо аду по имени Ничто, который я всю жизнь несу изо всех сил своих!
То, что является адом для одного из людей, было бы раем для другого. То, что отягощает одного, дарует другому легкость. Но главным возмездием и наградой для живого всегда была, есть и будет Правда.
Возможность увидеть свою жизнь со стороны, во всей ее красоте или ничтожестве, и не сметь ничего изменить в ней, – вот та пытка или то счастье, которое выше всего земного!
И каким милосердием была бы для человека возможность поделиться своим адом с другом, для которого этот ад является раем! Впрочем, для этого существует – литература.
И каждый человек, борющийся со своим внутренним адом, терпит поражение за поражением – и от этого становится только сильнее. Сила ли нужна для борьбы – или борьба для воспитания силы? Не знаю… Но радость ощущения своей возрастающей мощи даже при поражениях способна облагородить душу и избавить от страха.
Поэтому – слава тебе, тяжесть жизни на плечах моих!
52
Сегодня в мою вечность пришел Александр Блок. Вечность была светлой, чистой и почти не меблированной, он молча сидел, как врач, у края постели, в которой лежал я. Я видел его лицо – белое, неподвижное. Он словно сопровождал меня в пути, по которому когда-то шел сам.
Мы не говорили друг другу ни слова – все было понятно без объяснений. Сначала я молчал о том, что мне нечего у него спросить, он – о том, что ему нечего сказать. Его молчание было похоже на шершавую стену, мое – на рассыпающийся гравий. Неровный пульс наших душ, как шепот прибоя, окружал тишину, в которой растворялись все смыслы. Вдруг мое молчание стало свечой, а его молчание – ветром, раздувающим пламя. Отблески моего молчания метались по бесплотным белым стенам приюта, где мы находились. Его молчание нападало на мое, вгрызалось в него, но не убивая, а только делая сильнее. Постепенно тишина, исходившая от меня, поднялась над его тишиной и успокоилось в ее сердцевине, как море после шторма успокаивается в своих берегах. Я понял: то, что должно было совершиться, совершилось. Жребий брошен. Дар принесен. Но вдруг рядом с нашими молчаниями появилось третье – чье? Я начал искать его источник и увидел, что посетивший меня поэт исчез. Вокруг меня были только белые стены, белесые окна и три молчания – мое, Блока и незримого гостя. Каждый поэт, уходя, оставляет не только свои слова, но и свое молчание, и из этого молчания можно узнать порой намного больше, чем из слов. И я знаю, что еще не раз приду сюда – в просторную белую комнату Трех Молчаний.
32
Чтобы понять, как боль переходит в знание, нужно прочувствовать, как знание переходит в боль.
96
РАЗГОВОР ВО ТЬМЕ
Я. Иногда мне кажется, что я мог бы быть другим человеком, прожить другую жизнь. Я мог бы родиться на несколько лет раньше, в другой семье, быть с детства менее угрюмым, менее самолюбивым, более открытым и дружелюбным, чистым, как стекло, не стремиться к первенству ни в чем, жить легче, впитывая жизнь всеми порами, пережить сильную романтическую любовь… и скончаться от воспаления легких двадцати с небольшим лет, не увидев и не поняв всего, что увидел и понял я – такой, какой я есть. Лучше ли эта жизнь той, которой я живу сейчас? Не знаю. Моя сбывшаяся жизнь труднее, но интереснее, в ней больше горечи, но и счастливых мгновений тоже больше, не говоря уже об открытиях и радости творческого труда.
Часто я хочу обратиться к другому себе, к своей воображаемой альтернативе с вопросом: завидуешь ли ты мне так, как завидую тебе я? Хочешь ли прожить мою жизнь с такой силой, с какой я мечтаю о твоей? Или ты не знаешь обо мне и твоя жизнь течет по отведенному для нее руслу, не зная о других направлениях, которые могла бы принять?
Другой Я. Не спрашивай меня, потому что я – не из тех, кого можно спрашивать. Я жил, не рассуждая, только чувствуя, что во мне есть нечто, чему в моей жизни не дано проявиться. И я смирялся с тем, что это нечто останется непроявленным. Моя жизнь была коротка и легкомысленна, но в моей душе всегда оставался привкус грусти от того, что все могло быть по-другому. Но понять этого я никогда не мог. Только теперь, когда моя жизнь стала воспоминанием, я смог это осмыслить.
Я. Тебе было больно от этого привкуса грусти? Или он был тебе приятен?
Другой Я. Он был скорее приятен – я ощущал, что у меня есть тайный клад, которым я не могу воспользоваться, но его существование возвышает меня. А с тем, что я не открою его никогда, я смирялся, как с высшей волей. Я жил жизнью изгнанного принца, лишенного власти, но не утратившего чувства своей избранности. Это дарит тайное удовольствие – в отличие от утомительных хлопот, связанных с властью.
Не Я. Твоя альтернативная личность потому и не была должна раскрываться до конца, что это сделал ты. Вы несли одно бремя в двух параллельных реальностях, один увидел только погожее утро своего века, второй стал свидетелем грозового полудня. Не стоит завидовать ни первому, ни второму, потому что ни вкусивший мало сладости, ни познавший много горечи не счастливы вполне. Вы дополняете друг друга, как светлая и темная стороны Луны, и обе ваших жизни – это пути одной души.
Я. И все-таки я рад, что живу именно своей жизнью. Я ничего бы не стал в ней изменять, не убрал бы из нее ни одной краски, ни одного пятна – ни черного, ни белого, ни даже серого, потому что все, что происходило со мной, учило меня новому. Плен оказывался свободой, в бедности скрывалось богатство, боль несостоявшейся любви, не принося счастья, наполняла жизнь смыслом. В результате я подхожу к середине жизни осознавшим себя, пересчитавшим все находящееся в тайниках своей души и предлагаю будущему распорядиться накопленным мной имуществом так, как оно сочтет нужным.
Не Я. А не кажется ли тебе, что у твоей жизни мог быть и третий вариант? Третий путь твоей души, третий расклад одних и тех же карт, третья мозаика из тех же элементов? Подумай об этом. Какой она могла бы быть?
Ничто. Дыр бул щыл убещур скум вы со бу р л эз.
58
Через три дня после экзекуции над Рудницким Леда пригласила меня в гости. Она жила в добротном доме, построенном пленными немцами после войны. На стенах ее комнаты висели яркие красно-коричневые ковры, поверх которых были пришпилены репродукции Антуана Ватто. Вдоль одной стены стоял советский гарнитур, большая часть его полок была уставлена книгами. Собрания сочинений подбирались со вкусом, чтобы корешки томов подходили друг к другу по цвету. В нише в гарнитуре стоял массивный японский телевизор, из-под него выглядывал магнитофон. Под потолком нависала роскошная люстра, под ней покачивался разноцветный мобиль. Над кроватью висела копия «Девочки на шаре», мастерски сделанная вещь. Возможно, подарок кого-то из друзей Леды, художников.
Мне было не по себе в этой обстановке, я долго мялся на пороге, перекладывая из руки в руку зеленую папку с рукописями.
– Что это у тебя? – Леда взглянула на папку, вопросительно подняв брови. Мне показалось, что ее глаза, и так большие, выросли до почти космических размеров. – Стихи?
– Да. Я стихи принес… Новые. Хотел прочитать… – пробормотал я.
Леда невольно фыркнула.
– Извини, я часто не могу сдержаться и хихикаю, когда смешно. Ты пробубнил, как Афоня: «Я тебе духи купил». «Я тебе стихи принес». Точь-в-точь. Не сердись, просто у меня такая манера общения. Если принимаешь меня, принимай и ее. Как говорят англичане: «Любишь меня, люби мой зонтик».
– Ничего, – по моей спине тек холодный пот. Леда стояла передо мной в золотисто-бежевом халатике с широкими, как у кимоно, рукавами. Казалось, если она взмахнет рукавом, оттуда вылетит стая белых лебедей. Волосы девушки были заколоты японской заколкой, как на старинной гравюре. По улыбке Леды было видно, что ей по душе мое смущение.
– Я хочу, чтобы у нас было ритуальное чаепитие, как на Востоке, – объяснила она. – Красивый древний обряд, который успокаивает, очищает и возвышает. Ты же любишь обряды? Конечно, у китайцев все не так, как у меня, я многое придумала сама, но это тоже хорошо. Я люблю придумывать новые ритуалы для новой жизни. Вся жизнь – Ритуал, как учил Конфуций, любое дело священно, во всем есть красота. И почему бы нам не открыть красоту в чем-то новом? Например, изобрести свою чайную церемонию?
– В России нужнее квасная церемония. Или водочная, – отшутился я. Первое смущение прошло, способность к импровизации вернулась. Все, что случится дальше, будет делом техники. Главное, что я больше не каменный.
Леда снова фыркнула.
– А ты забавный. Водочных церемоний у нас в семье не любят, скорее коньячные. Но лучше всего – чай. Присаживайся, пей чай, не торопись, впитывай каждый миг покоя, пробуй его на вкус… Я часто чувствую, что у тишины – вкус зеленого чая. По крайней мере, у той, которая бывает у меня в комнате. Хотя у каждого человека – своя тишина…
Леда указала взглядом на низенький столик-тумбочку на колесиках, стоявший посреди комнаты. На нем красовались крохотный чайник и две чашки, разрисованные драконами и облаками.
Я уселся на полу в позе восточного божества. Леда, встав на колени, разлила по чашкам дымящийся чай.
–А какой у тебя чай? – спросил я.
–Китайский. «Зеленый порох». Его специально привозят из Китая. У нас есть друзья в посольстве в Пекине, с их помощью мы многое достаем. Я думаю, ты такого не никогда не пил.
Я попробовал. Чай был и правда необычный, с насыщенным, чуть горьковатым вкусом. По телу разливалась приятная теплота, голова начинала покруживаться. Я пьянел от каждого глотка «зеленого пороха», как будто это был алкоголь.
Леда вытащила из шкафа большой альбом в твердом переплете. Я испугался, что она начнет показывать мне семейные фотографии. «Вот тебе и чайная церемония». Но альбом оказался рукописным журналом, уже несколько лет выпускаемым другом Леды, подпольным художником Егором Берковским. Когда-то, лет десять назад, Егор отморозил себе пальцы на руках (уснул пьяный в сугробе), но продолжил рисовать. Он привязывал к культе перо и чертил на альбомных листах странные узоры из пересекающихся, как паутина, линий, среди которых проступали лики, лица, звериные морды, звезды, раковины, горящие письма и другие красивые символы. Раз в год он собирал свои рисунки и сплетал из них альбом, друзья-писатели сочиняли к рисункам подписи в стихах и прозе, иногда по мотивам работ Егора возникали целые рассказы. Возникший таким образом номер журнала «Голодный художник» разыгрывался в лотерею. Вырученные деньги позволяли Берковскому отметить Новый год и частично расплатиться с долгами за коммунальные услуги.
– Это уже пятый номер «Голодного художника», – вздохнула Леда. – Уже пять лет Егор кормится вот такими вещами. Иногда выходит на рынок, раскладывает на асфальте рисунки и меняет на выпивку. Пишет стихи, жуткие и смешные. «Жил-был один антропофаг, он человечество любил. И книжки умные читал, еще не пил и не курил. Однажды полнолунья ждал, чтоб некий ритуал вершить, но что-то на него нашло и что-то стало говорить. Наговорилось что-то с ним, и хрен бы с ним, да все не так! Он человечество любил, а тут беседы натощак. И мрачен стал антропофаг, стал пить, курить и не читать, и перестал людей любить, чтоб овощи и фрукты жрать». А сколько его стихов погибло! И рисунков. Были у него сказки, не хуже Пушкина, так он их сжег. Отказались печатать, значит, пусть горят. Обидчивый человек! Веселый, но обидчивый. Сколько художников погибло из-за этого… Из-за обид на наш мир. «Смертельно оскорбленный гений»…
– Я вот не обидчивый, – похвастался я. – То есть обидчивый, но терпеливый. Кто бы что мне ни говорил, я молчу. Все терплю, все запоминаю. Никого не забыл. Каждый, кто хоть раз на меня косо посмотрел, сто раз кровавыми слезами обольется. Но это потом. А пока я жду, терплю и запоминаю. И кажусь улыбчивым и простым.
– Вот ты какой… – брови Леды взлетели вверх. – А интересно, кто ты кто по гороскопу?
– Скорпион.
– Так ты же родился в октябре. Я думала, что ты Весы?
– Нет, Скорпион. Аркадий родился на три дня раньше меня, он Весы, а я уже Скорпион.
– Все понятно. А я Телец… – Леда облизнула губы. – А можно задать вопрос… другой? Немного на другую тему? Только не обижайся… Если не хочешь, не отвечай. Можно?
– Можно, все можно, – я понял, что в этом доме мне позволяется многое.
– Интересую ли я тебя как девушка? – жеманно спросила Леда и опустила глаза.
Мне стало смешно, я представил себе, как эта сцена выглядит со стороны. Пряча улыбку, я отвел взгляд в сторону, к окну. На подоконнике возвышался огромный разлапистый кактус, хищно расставивший колючие конечности. Растение глядело на меня и напыщенно молчало. За спиной кактуса поблескивали огни маленького города, росла и ширилась провинциальная тишина.
– А этот кактус, наверное, тоже экзотический? Тоже из Китая? Там есть кактусы? Я таких нигде не видел… – я намекнул, что лучше перейти на другую тему.
– Нет, не из Китая, – обиделась Леда. – Из Мексики. У нас есть друзья во многих странах…– Я не просто так заговорил о кактусе, – утешил ее я. – Это сакральное растение. У него есть характер, почти как у меня. Выносливый. Я тоже выращиваю кактус, только не такой, как этот, маленький. Три года как купил. Бывает, придешь домой усталый, посмотришь на кактус на подоконнике – и легче на душе. Этим летом я написал стихи о кактусе:
растет-цветет веселый кактус
на подоконнике просторном
в лучах полуденного света
не слыша шума городского
глядит в окно веселый кактус
на шум и ярость людных улиц
глядит назад веселый кактус
в прозрачный полумрак квартиры
на стол тетради полки книги
глядит-глядит не наглядится
пылают реки горы страны
места меняют континенты
а кактус ждет а кактус ищет
свою родную кактусиху
он для нее цветок нездешний
несет в колючих нежных лапах
он для нее откроет небо
в своем цветке неповторимом
просторное большое лето
несется плача и сверкая
пылают реки горы страны
мир никогда не станет прежним
и видя это безобразье
на подоконнике томится
на подоконнике скучает
колючее живое счастье
веселый кактус Афанасий
– Здорово! – развеселилась Леда. – А почему он Афанасий? В честь кого-то?
– Из-за размеров, – серьезно ответил я. – Восемь сантиметров на семь. Я измерял.
В комнате воцарилась недоуменная тишина. Мы молча смотрели на кактус, потом друг на друга.
– Уважаю кактусы, – вздохнула Леда. – Они угрюмые, но жизнелюбы. Много вынесли, но борются за жизнь.
– Я думал о том же самом, – удивился я. – А ты озвучила мои мысли. Ты владеешь телепатией?
– Нет никакой телепатии, – хмыкнула Леда. – Просто я ведьма. Я вижу все, о чем думают люди.
– Так я тебе и поверю, – я покачал головой.
– А я тебе докажу! Хочешь, попробуем? – глаза Леды загорелись. – Устроим сеанс магии. Я погружу тебя в транс.
– Давай, – я старался выглядеть веселым, но чувствовал себя опустошенным и безвольным, как будто меня загипнотизировали. – Давно там не был. Или я уже там?
Столик с чайником и чашками был пинком отодвинут к стенке. Леда поставила в центре комнаты стул, усадила меня на него, сама встала сзади и начала водить руками над моей макушкой.
– Базаби лаха бахабе ламак кахи ахабабе… более низким, чем обычно, голосом бормотала она. – Дыр бул щыл убешщур скум высобурлэз… Кареллиос ламак ламак бахалиас кабахаги…
В зеркальной задней стенке шкафа, стоявшего напротив нас, между прозрачными полками и рядами хрусталя, я видел себя и Леду. Действо выглядело красиво, как сюрреалистическая картина. Я видел свое лицо отраженным один раз в задней стенке и еще дважды – в двух зеркальных полках, над и под первым отражением. Оба отражения были перевернутыми. Над верхней полкой в море заключенного в хрустале света метались золотые ладони Леды, под нижней лежали мои руки, сложенные, как у медитирующего Будды. Нижняя из трех моих голов словно лежала в у меня ладонях, как отрубленная.
Леда вещала загробным голосом:
– Сабалиос бариолос лагоз ата кабиолас… Бобэоби вээоми лиэээй гзигзизэо! Самахак ата фамолас хуррайя!! – под конец она почти завопила.
Я постепенно впадал в транс. Мне становилось не по себе от бормотания Леды и тишины вокруг. Не сошла ли Леда с ума? Голова кружилась все сильнее, по коже текла холодная дрожь. Я чувствовал, что вот-вот потеряю контроль над собой. «Какой-то странный чай, – подумал я. – В нем все дело. Китайцы есть китайцы. Подсунули не то. Мэйд из Чайна…»
Пространство перед моими глазами поплыло, он видел, как тысячи крылатых рук и лиц несутся в сияющем, распавшемся на бесконечное количество бликов хрустальном океане. Среди этого хаоса сохраняла форму только моя голова, тело уже растворилось среди пестрых вертящихся палочек и точек. Звезды и розы, круги и квадраты, светящиеся точки и запятые шли на приступ последнего бастиона разума в разрушающемся мире, я чувствовал, как в затылке открывается дверца и поток сияющего света соединяет мой мозг с невидимой точкой в центре мирового танца.
Пока голова понимала хотя бы это, надо было бежать.
– Знаешь, я пойду… – собрав последние силы, я попытался встать, но пространственный танец захватил меня, и утратившее материальность тело рухнуло на пол.
– Что, вот так?... – крикнула Леда. – Как можно?.. Ты… ты… нельзя!
Я взглянул на Леду. Минутное головокружение прошло, но холодная дрожь не прекращалась. Невысокая, крепко сложенная, Леда стояла передо мной прямо. Ее лицо было серьезно, волосы, распущенные, как у Марины Влади в «Колдунье», падали на округлые плечи. Большие пальцы рук, сложенных на животе, еле заметно шевелились. Она смотрела мне в глаза, не мигая, вопрошающе, проникновенно.
Я, покачиваясь, поднялся, с высоты своего роста чуть наклонился к ее лицу. Замер, всматриваясь черными глазами в ее серые. Положил ладонь на ее плечо. Кожа Елены оказалась обжигающе горячей.
Она медленно положила руку мне на спину, между лопатками. Я прижал ее тело к своему, осторожно прикоснулся к губам. Почувствовал их тонкий, влажный, прозрачный запах. От губ Елены веяло весной, которой тайно пронизаны промозглые предосенние вечера.
59
Сырой рассвет поднимался над городом. Восточный край неба едва начинал розоветь, и по нему ползли перистые облака. Внизу виднелись серые коробки коттеджей. Над сонным микрорайоном полз неторопливый, вкрадчивый дым.
Мы с Ледой лежали в постели. Леда спала, а я молча рассматривал ее тело, маленькие груди, нежные плечи, медальон с эмблемой Инь и Ян на шее, аккуратный вздернутый носик, длинные ресницы, полуоткрытый рот… Интерьер комнаты был погружен в полутьму. Разбросанные по полу вещи, халатик Леды, мои пиджак и брюки, фрукты на столе – все как будто было погружено в ожиданье, всматривалось в себя. Мир был темен, таинственен и молчалив. Я все сильнее чувствовал, что за внешней оболочкой всего, что есть в нашей жизни, кроется что-то высшее, темное, таинственное и блаженное, что моя встреча с Ледой произошла не зря, а по высшей логике судеб… Мне хотелось декламировать стихи. «Как я трогал тебя! Даже губ своих медью трогал так, как трагедией трогают зал. Поцелуй был как лето, он медлил и медлил, лишь потом разражалась гроза,» – повторял я, покрывая поцелуями тело Леды. Она не просыпалась, только чуть посмеивалась во сне.
Впитывая в себя это ненастное счастье, то вспоминая стихи, то снова проваливаясь в сон, я чувствовал то же, что и при взгляде в овраг, покрытый туманом: глубина и полумрак таили в себе загадку и зов, а за ними таилась целая кладовая, подобная человеческой памяти. Посмотришь так – и застынешь, как от нежданной сокрушительной правды странного нового мира, ощущая огромность холода над людьми и миром. Я закрывал глаза и видел: из мрака передо мной выступает темный, заросший лесом овраг. Плотный, задумчивый туман оседает на кустах. Мир послушно тает в нем, и кажется, что непобедимо наступает изначальная муть, в которой размешаны были когда-то тысячелетия человеческой истории…. Но постепенно глаза привыкают к туману. Предметы, медленно вылупляясь из дымки, встают перед нами, несмелые, смущенные, – так смотрел Адам на творца сразу после сотворенья, еще не зная своего имени. Следы птиц и зверей, разноцветье трав, паутинки, бусинки дождя, ворохи сырых тканей тумана, чьи-то голоса, переплески ручейка, отблески луны на волнах – все это хранится в овраге, как в шкатулке, только не каждому дано понять цену этих сокровищ. Для кого-то это все – пустяки, а для кого-то нетронутая красота таится в каждой травинке, в каждом блике луны, в каждом шорохе.
Ветер самозабвенен, велик и прозрачен. Воздух полон мельтешения взбунтовавшихся богов. Нежная молодая трава обнимает грубые солдатские тела упавших деревьев. А в небе от звезды к звезде – словно следы кровавые… Велика тайна и красота мира сего, Господи! Но не каждый способен ее уразуметь. Большинство людей проходит мимо, так и не поняв великого смысла простых вещей. И встает перед глазами не мир, а сплоченный синий воздух, сквозь который иногда доносятся отзвуки тайно текущей жизни... И дремлет овраг, полный тумана, и хмурится, как мудрый человек, свое поживший и многое узнавший, не имея возможности сказать самое главное. И смотришь на движущийся воздух, и чувствуешь тайное сиротство жизни…
Деревья думают корнями, ветвями и корой, гонят мысли по жилам из недр земли к высокому небу. Почва морщинится, дрожит туман, и, будто брови, колышутся ветви. Но глубокие морщины земли хранят память обо всех, кто здесь побывал. Земля верит, что кто-то пройдет здесь и прочтет ее тайную повесть. И за чье-то сердце зацепится эта красота, и в чьей-то памяти пустит побег. Не зря ведь все в жизни происходит… Верно, не зря! У всего в мире, даже у самого пустячного пустяка, есть своя суть и назначение. И у звезды, и у зверя, и у человека. Только существование зверя безвестно и устойчиво, один человек перед собой живет и сам себя судит и подкашивает.
В конечном счете, чтобы измерить, взвесить на весах и осудить себя самого, я снова и снова представлял себе темный взгляд Леды – и словно все глубже погружался в сырой полумрак оврага. Подобно человечеству, продвигался во времени все дальше и дальше, с трудом, с боями, захватывая вечность кусок за куском, город за городом, луг за лугом. И отступало незримо растущее время, заманивая и изматывая противника.
Жизнь – она одна на всех, люди несут ее всем скопом. Когда одно поколение умается – передает тяжесть другому, и новые люди несут ее. Количество людей растет, а легче не становится, – вес жизни возрастает вместе с нашей силой. И я тоже несу это бремя, все дальше и дальше… Мне казалось, что пустота над моей дорогой, как перед грозой, собирается в клубок, чтобы потом неожиданно лопнуть. Ветер чужой жизни веял мне в лицо, сухие травы с горьким трепетом хрустели под ногами. И страшно было слышать только отдельные шорохи в этой напуганной Кем-то тишине, в которой я предчувствовал первые удары предстоящей бури.
91
Символ веры в Жизнь. Я верую в Жизнь, разумную, но неуловимую, понятную, но непостижимую, вечную, всемогущую, всеведущую, вседовольную и всеблагую. Жизнь не теряет своих качеств из-за вторжения в Нее элементов зла и разрушения, ибо Она есть начало, все вбирающее в себя, и я должен принять Ее во всей Ее полноте. Страдание – это крест: когда ты несешь его, он своей тяжестью придавливает тебя к земле; когда ты восходишь на него, он приближает тебя к небу. Это приближение мучительно, но только так ты можешь увидеть многое, чего не увидел бы с самой высокой вершины.
Я надеюсь на Жизнь. Я не боюсь смерти, ибо знаю, что не останусь с ней один: живой не может быть одиноким. Я люблю Жизнь и хочу понять ее. Жизнь открыта, но неисчерпаема. Я знаю, что не могу постичь всех ее глубин, и благодарен ей за это: бесконечность и неисчерпаемость жизни вне меня есть гарант бесконечности и неисчерпаемости жизни внутри меня.
39
Скажи, что тебе нужно от жизни, и я скажу, что жизни нужно от тебя.
54
СТОЛПЫ КОСМОСОФИИ
(Основы учения Михаила Глинского)
Есть только Свет, всеобъемлющий и вездесущий. Все, что существует в этом мире, – разные формы Света. Материя, душа и дух – различные степени концентрации Света. То, что люди называют Богом, мы называем Светом.
Высшей концентрацией света является Жизнебог – не личностный Бог, а безликий Абсолют, Вселенская Безличность, абсолютный разум, рассчитывающий законы, по которым существует мир. Он не знает добра и зла, для него существует только целесообразность.
Личностной эманацией Жизнебога является Святая Троица в трех ипостасях: Отца, Сына и Святого Духа. Ипостасным именем Бога-Отца является София, Мудрость, лежащая в основе создаваемого им мира. Ипостасным именем Бога-Сына является Логос, Слово, несущее Софию-Мудрость Отца. Именем Святого Духа является Любовь, огненное дыхание любви, пронизывающее мир, исходящее от Премудрости Отца и приходящее к людям через Слово Сына. Любовь заключается в том, чтобы видеть людей и мир не такими, какими они пребывают в современном искаженном состоянии, а такими, какими их задумала Премудрость Отца, т.е. совершенными. Состояние такого видения мира называют также благодатью и вдохновением. Чтобы достичь этого состояния, необходимо очистить свое сознание постом (т.е. воздержанием от суеты) и молитвой, молиться не только словом, но и делом (т.е. посвящать всех свои дела и помыслы совершенствованию мира).
Может быть две ошибки в представлениях о Святой Троице. Первая заключается в том, что Святой Дух определяется как исходящий от Сына, а не от Отца. Дух не может исходить от Слова, т.к. Слово есть только облачение Духа. Дух исходит от Премудрости.
Вторая ошибка заключается в том, что Святая София представляется ипостасным именем Бога Сына, Прекрасной Дамой, которой нам надлежит служить. Святая София есть не Невеста, но Матерь Мира, Премудрость, лежащая в основе мироздания, и служить ей надо не как Невесте, а как Матери.
Оба заблуждения приводят к тому, что Божественный Свет оказывается в плену ложных человеческих представлений, высшее подчиняется низшему, служение человека направляется на низшее и в итоге отвращается от Бога, что приводит к духовной гибели ищущих Света людей.
Третий уровень нисхождения Света – богодьяволы, боги языческих религий, могущественные, любящие, но страстные, как люди: Аполлон и Дионис, Шива и Кришна, Один и Локи.
Четвертый уровень нисхождения Света – служебные духи, белые и черные ангелы, духи ненависти и любви, не имеющие своей воли и личности, но всеведущие и могущественные.
Серые ангелы – третий вид служебных духов, это – свидетели наших грехов, судьи и духи возмездия. Они не знают любви и ненависти, только правду, и механически награждают и карают людей за их поступки, оставаясь при этом чуждыми добру и злу.
Четвертый вид служебных духов – это стихиали, духи природы, противоположные Серым ангелам. Они не знают справедливости, только желание жить и наслаждаться, продолжать свое существование любой ценой. Не имея этического разума и подчиненной ему воли, они легко становятся марионетками белых и черных ангелов.
* * *
Существует три уровня бытия: элементарное бытие – существование неорганического мира, жизнь – самодвижущееся бытие и сознание – бытие самоорганизующееся.
Жизнь – это самодвижущееся бытие, растущее, чувствующее, но не сознающее себя. Она подчиняется инстинктам – привычкам рода, целесообразным, но слепым и безнравственным механизмам.
В природе всего живого – два основных инстинкта: инстинкт сохранения жизни и сохранения рода. Первый велит выжить, даже ценой чужой гибели, второй велит погибнуть, но спасти своих детенышей, своих близких, свое племя.
Три выражения инстинкта сохранения жизни – желание жить, стремление к счастью и самоутверждению, то есть похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, – это три кита, на которых стоит человеческое общество, все хорошее и все дурное в нем.
Два главных человеческих порока – трусость и жадность – также есть развитие инстинктов, стадного и хищнического. Стадный инстинкт, побеждая разум, вводит человека в соблазны, худшие из которых – соблазн слепого подчинения и соблазн неограниченной власти.
* * *
Человек по природе многотелесен, то, что называют его телом, – это по сути четыре разных тела: два низших, порочные и смертные, и два высших, божественных тела, которые у большинства людей находятся в неразвитом состоянии.
Физическое тело человека – это его плоть, кости, мускулы, кожа и внутренние органы. Оно поражено грехом, мучимо болезнями, холодом, голодом и жаждой удовольствий.
Химическое тело человека – это его кровь и химические реакции, происходящие в крови. Именно кровь мыслит и чувствует, мозг только завершает эти процессы. В крови живут душа и сознание.
Духовное тело человека – это воздух, текущий в крови, разносимый кровью по организму. Именно от дыхания зависят высшие духовные процессы: молитва, медитация, эстетические переживания, любовь и даже смех – все это связано с изменением дыхания.
Высшее, световое тело человека – это электрические импульсы, происходящие в мозгу и крови, вспышки космической энергии, отблески бессмертного Света, заброшенного на Землю. Именно оно бессмертно и после смерти физического тела может продолжить жизнь на других носителях.
* * *
Человек от природы – царь и раб, червь и бог, обезьяна и лев, волк и овца, растение и минерал. Ему дан разум, чтобы из этого материала сотворить себя и стать не зверем, не богом и не демоном, а – Человеком.
Быть человеком и значит творить себя, опираясь на опыт своих и чужих проб и ошибок, используя неопределенность, именуемую свободой, и разум, анализирующий варианты пути и выбирающий верный путь.
* * *
Общество, как и природа, по сути инфернально, оно держится на похоти и насилии, заставляющих мечтать о гармонии. Гармония в полной мере невоплотима в мире, где существует смерть, но мечтать о ней обязан каждый, кто хочет называться человеком.
Обществом руководят три силы: сила слов, денег и оружия. Слово лежит в основе всего, но им легко пренебречь, его сила не безусловна. Любое оружие – обоюдоострое, тот, кто применяет силу, ранится сильнее, чем побежденный им враг, и грехи побежденного достаются победителю вместе с трофеями. Только деньги вездесущи и безусловны, они дают человеку свободу в материальной сфере.
* * *
Делай добро, зло, к сожалению, само получится. Зло необходимо для существования нашего мира, но специально творить его нельзя. Оно так же находится в природе вещей, как и сопротивление ему, но сопротивление, в отличие от зла, требует большего волевого усилия.
* * *
Ум – это умение правильно ошибаться. Умей разглядеть залежи сокровищ в каждой ошибке. Любое открытие когда-то было ошибкой, но не каждая ошибка смогла стать открытием.
Глупость – это негибкость мышления, неумение признать свою ограниченность, знание частичной правды, выдаваемой за абсолютную, и неспособность действовать соответственно ситуации. Умная фраза, сказанная не к месту, становится глупостью.
* * *
Жизнь – это поДВИГ, непрерывное движение вперед. Даже ничтожное дело, подвигающее к Свету, становится подвигом. Сделай жизнь огненной рекой, текущей к мировому рассвету, спокойной, чистой, не меняющей своего русла. Не довольствуйся собой – будь собой. Слушай всех, не слушаясь никого, кроме опыта своих побед и ошибок, выплавляй из чуждого свое, собирай себя по крупицам, будь творцом своего высшего Я каждый день своей жизни.
Проповедуй благо не словом, а личным примером. Будь приветлив и прост, не трать слова понапрасну; будь целостен в устремлении к Свету, отбрось все лишнее, гармонизируй свои чувства и поступки и не заглядывайся на постороннее.
Применяй силу только для вынужденной необходимой самозащиты. Тот, кто бьет первым, всегда виновен больше всех. Вынужденно использованная сила или хитрость не должны превосходить силы или хитрости, от которых ты обороняешься.
Не спасай людей против их воли, уважай свободу выбора каждого. Предоставь тонущим выплывать самим, если они не зовут на помощь. Если они утонут, сочти их гибель заслуженной, если они выплывут, уважай их силу и стойкость.
* * *
Призвание человека – преобразить материю, изменить состав атома, уничтожить смерть, создать новую, светоносную, бессмертную плоть и слиться с Жизнебогом в гармонии Всеземли.
Весь современный материальный мир должен быть уничтожен, он основан на лжи и не перерастет в ничто лучшее. Грядет катастрофа, после которой уцелеют крупицы, которые и станут зернами будущей Всеземли.
Гармоническое состояние мира – Всеземля – подобно сияющему океану, искрящемуся мыслью. В этом новом мире люди станут богами, волнами светового океана, бессмертными, блаженными, всеведущими и причастными мировой гармонии.
55
Главным доказательством подлинности учения Глинского было откровение, пережитое им десять лет назад на его родине, в селе Мартемьяновка. В этот сложный период Михаил Степанович, уволенный с работы и разошедшийся с женой, жил у своей тетушки и лечился от депрессии крестьянским трудом.
Однажды вечером Глинский, поругавшись с тетушкой, вышел из дедовской избы, взошел на мостик через речку Замарайку и закурил. Он сам не ожидал, что в этот момент вселенная наплывет на него и захватит в свои объятия. Небо с фиолетовыми облаками словно надвигалось на него, зелень травы и кустов окутывала со всех сторон, и посреди этого звучал тихий шепот воды, в котором зрели будущие слова его Учения. На горизонте закат расплескивал яркие краски, смешиваясь с золотыми лучами солнца, которые отражались в зеркальной поверхности речки. Вокруг вились клубы теплого воздуха, пропитанные запахами цветов и свежестью увлажненного мха.
Стоя на невесомом, почти бесплотном сплетении дерева и камня, Глинский ощущал, как его тело становилось прозрачным, теряло свои привычные границы, тихое розовое сияние разливалось в нем и в мире. Само время перестало быть, растворившись в этой розовой пульсации. Он словно стоял над временем и пространством, и миры проносились где-то внизу, пока он, полный блаженства, впитывал ровное сияние, исходившее отовсюду.
Сияние поднималось волнами, и каждая следующая открывала его сердцу новую жизнь, новое счастье. Жизнебог тек сквозь него, сквозь доски моста, сквозь камни на берегу, сквозь облака и кроны деревьев, развилки мыслей и перекрестки минут. Он звучал, как музыка, перетекал из себя в себя, трижды входил в одну реку и единожды в три солнца, вечно задавая себе один и тот же вопрос, звучащий точно так же, как ответ.
Каждая волна, накатывающая на берег, приносила Глинскому все новые и новые откровения, пробуждая в сердце вроде бы привычные чувства, которые становились с каждым мгновением глубже, отражались в себе и удваивались в бесконечности. Здесь, на границе света и тени, позволялось вырваться из оков времени и почувствовать первозданную гармонию. Всеземля росла из каждого атома, ворковала крылолепестками, множилась жизнесмыслами, падала зерном сама в себя, прорастала бесплотностью, возводила себя в куб, гиперкуб и гиперикосаэдр, чтобы лечь в слово Учения и законсервироваться в нем до истечения времен.
Стоя на старинных, пропитанных теплом уходящего дня досках, Глинский чувствовал связь с каждым мгновением, что пережили деревья, свидетели человеческих радостей и трагедий. Острые запахи природы проникали в душу, поднимая на поверхность забытые с детства ощущения. Взгляд скользил по медленной реке, где отражения становились зеркалом для человеческих мыслей о божественном.
Розовое сияние продолжало течь из груди Глинского, переполняя небосвод и ложась отблесками на поверхность реки, крыши домов и старые доски моста, а спокойствие воды дарило уверенность в том, что каждое мгновение здесь — это часть великого замысла, в котором все, кто когда-либо был, есть и будет, возникают из безымянного розового света, дробятся во множестве лиц и обличий, людей, животных, птиц, стихиалей, белых, серых и черных ангелов, разлетаются, как брызги, по глухому необжитому пространству и снова соединяются в том первичном Свете, без которого не было бы ни нас, ни мира, который нас окружает.
150
КРЫЛЬЯ
Гиперпоэма Михаила Глинского
1. Я расправляю крылья. Обновляющийся в слове ветер задает вопросы, на которые отвечает эластичная инерция моего звукового тела. Мой полет сам пишет себя. Холод воздушных потоков рифмуется с давно отзвучавшим прошлым.
2. Опираюсь только на пустоту. Небо – мой двойник. Я не знаю, с какой стороны будущее, а с какой – прошлое. Я подлинно телесен. Я подлинно духовен. Я подлинно непобедим.
3. Я мыслю, следовательно, свободен. Моя мыслимая и мыслящая свобода оставляет следы на поверхности воздуха. Воздушные глыбы давят на мысли и мечты человека, невесомая весомость их архитектоники становится новым алфавитом. Земля вращается вокруг наших слов и слез.
4. Подземное электричество течет по нашим воспоминаниям. Увенчанное криками человечество обретает в пунктуации ударов сердца новые крылья. Всеземля похоронена в нас, как земляной орех, чтобы прорасти облачным дыханием и переменами прошлого.
5. Слепые теогенетики прильнули к своим колбам и пробиркам. Бог, собираемый в Бытии и Небытии, являет Себя в отрицании Себя. Он живет в самой тесной каморке и никогда не выходит из нее. Ему не нужно ничто, чтобы быть всем.
6. Облачный Царьград проплывает над пустынями, полными человеческого песка. Сочти мыслящие песчинки! Космос уравновешен в нас, вместо облаков над миром одновременно плывут Рождество и Страсти Христовы.
7. Мысли отрубленной головы материализуются в ее новое тело. Мое сердце состоит из множества любящих меня сердец. Подводные очаги горят у берегов человеческой речи, их свет таится внутри любой тьмы.
8. Не смотрю на Свет, но вижу его, не слушаю Свет, но слышу его. Свет не знает дисциплины, но только дисциплине ведом Свет. Только в абсолютном ограничении становишься безграничным. Создадим храм не в пространстве и не во времени – создадим храм в человеческой речи, да станет она Светом.
9. Инферносфера окружает Землю плотным покровом. Темный небесный лес шумит ветвями над нашими снами и желаниями. Вереницы полусуществующих существ проносятся сквозь человеческие поступки. И в каждом шаге по небесному лесу меня сопровождают два проводника – Я-прошлый и Я-несбывшийся.
10. Внутри моего тела воюют непризнанные государства. Сверхжизнь и сверхсмерть борются внутри каждой мысли. Земля, вода, воздух и огонь создают вокруг моего сознания четыре тела, накладывающиеся одно на другое, - физическое, химическое, воздушное и электрическое. Плоть моя да накормит собой землю, кровь да утечет в океан смыслов, дыханием моим да дышит человечество, но импульсы мысли в мозгу да станут частью космоса!
11. Прощаясь с каждым уходящим днем, я хороню своего двойника. Кладбище двойников простирается не в пространстве, а во времени, и продолжительность его равна моей жизни. Под кладбищем двойников расцветают параллельные миры, образующие вторую смысловую сверхсистему. Армия моих умерших двойников готовится к штурму реальности.
12. Время – это беззвучная музыка, музыка – это воплощенное время. Плоть питается плотью, душа питается звуками – текучими мгновениями, обретшими облик. Четырехлистник координат становится телесным, одновременно оставаясь бесплотным и бессмертным. Звуки проходят парадной процессией по лепесткам вечности.
13. У каждого человека столько лиц и биографий, сколько людей существует на свете. Мы носим всю жизнь одну и ту же маску, но лицо под ней меняется бессчетное количество раз. Любой человеческий разговор – это беседа масок, под внешней непохожестью которых люди обмениваются лицами. И под всеми нашими лицами и масками таится Единое – бесплотное лицо времени, великая Воля-к-Ничто, покоящаяся в основе любого бытия.
14. Бесплотные бессмертные муравьи в спиритуальном муравейнике проводят зрелищные обряды, которых никогда не увидят. Театр для слепых выходит за границы театра. Магия запахов и звуков переходит в письменную речь, которая будет прочитана, но никогда не будет произнесена.
15. Вся моя жизнь – это разговор с антиподом, моим двойником, живущим на обратной стороне Земли. Я отвечаю на его жизнь всей своей жизнью – пробуждениями и снами, мыслями и поступками. Мы одновременно отрицаем и утверждаем друг друга, поляризуя планету. Мы – магнит, на котором держится Земля, мы только потому до сих пор не увидели друг друга, что с равной силой тянем на себя одну дверь. Когда меня не будет, мой двойник продолжит говорить за двоих, и над Ним – с тех пор единственным полюсом бытия – всюду будет сиять новая Полярная звезда.
16. Бог стоит за вселенной. Вселенная стоит за Богом. Выйдя по ту сторону Бога, мы увидим заросший травой двор городского дома, скамейки, помойку, заржавевшие качели. Пару забулдыг, курящих за гаражами. И вечно весенние звезды над ними.
17. Каждая точка – это скважина, это отверстие на плоскости. Можно проколоть плоскость, но как проколоть трехмерное пространство? Более того – как пронзить Время? Только абсолютным постижением его. Стань временем сам, и времени для тебя не будет.
18. Человек превращается в картину. Картина превращается в бабочку. Бабочка становится облаком. Облако взрывается вулканом. Вулкан превращается в спичку. Спичка становится точкой в конце этой строки.
19. Пытаясь подсчитать Ничто, я устал пасти стаи тигров внутри моей генетической памяти. Наше бытие негативно, но его позитив ничем не отличен от небытия. Форма – негатив бесформенности. Время – негатив вечности.
20. Человеческое сознание – пятое измерение мира, доразумная небытийность – его нулевое измерение. Минус-бытие как прием. Открытие несуществующих Америк внутри сожженного дома.
21. Надень маску на зеркало – и увидишь, что под ней лицо зеркала неизменно. Зеркало улыбнется, и тебе станет страшно от его улыбки. Постигни зеркало – и ты поймешь все. Осознать создание значит создать сознание.
22. Моховые плантации возвышаются на сотни метров над уровнем земли. Этаж за этажом, здание на здании – производство мха мощно набирает обороты. Воздух, фильтруемый мхом, максимально экологичен и полезен для дыхания. Моховой хлеб, моховые настойки, моховая икра – будущее питание сверхнедочеловечества. Мох растет везде, где можно и где нельзя, и постепенно учится мыслить. Скоро мы увидим моховые стихи и картины, а жильцы особняков будут долгими осенними вечерами беседовать с ученым мхом, растущим в рамочках на стенах их комнат.
23. Покупаю космическую пыль. Продавцы безбожно конкурируют друг с другом, то демпингуя, то повышая цены. Можно обойти всю выставку всемирного тяготения и не найти ни одного достоверно качественного образца пыли. Ценители готовы выложить огромные деньги за коллекционный образец космической пыли, который будет храниться в вакууме внутри резервуара из бронированного стекла. Коллекционирование редкой пыли и разнородного вакуума – любимое занятие аристократии будущего, которое уже есть и прячется внутри настоящего, но может так и не выйти из него на свет.
24. Машина, органическими деталями которой мы являемся, работает уже миллиарды лет. Ей неизвестно о нашем существовании, ее шестеренки и поршни лишены сознания, они бесконечно производят новые шестеренки и поршни. Независимо от воли Машины некоторые ее детали научились чувствовать и мыслить, и им стало больно и обидно от той ситуации, в которой они оказались. Следом за мыслящими шестеренками в железном нутре Машины завелись серые ангелы и стихиали, работа Машины стала интереснее. Неорганическая плоть Машины обросла душой, вернее – душами. С течением времени вмешательство сознания в механизмы бытия становится все сильнее, и не уничтожится ли бытие от несоответствия идеалам сознания? Серые ангелы выступают против этого, а стихиалям, живущим одним мгновением, их смертность неведома.
25. Честность с собой – основа любой добродетели. Вселенская форма комара столь же прекрасна, как вселенская форма Аполлона Бельведерского. Я врастаю в Жизнебога, а Жизнебог врастает в меня. Как это возможно – выйти из себя, не выходя из сознания?
26. Вертящиеся палочки окружают меня, наседают из пространства и времени, атакуют мое тело и мозг. Мое Я становится крепостью, которой уже не под силу выдерживать бесконечную осаду. К сожалению, переговоры с вертящимися палочками невозможны, в них действует вселенская Воля-к-Ничто. Но именно эта воля создала наш мир и способствует его двусторонней эволюции.
27. Представим себе дом с бесконечным количеством этажей и подъездов. В одном из помещений этого дома мы мертвы, в другом – находимся в расцвете сил, в третьем ждут нашего рождения. Но только немногие из нас способны понять, что, помимо помещения, где мы в настоящее время находимся, существуют другие комнаты и другие жизни. И подлинного почтения заслуживает тот, кто понимает, что все комнаты, этажи и подъезды этого дома суть одно помещение, заключенное внутри первоатома, который объемлет нетварным сиянием Параклет.
28. Копая колодец в своей памяти, мы не замечаем, как строим башню. Разные сорта вакуума смешиваются внутри каждого нашего воспоминания. Память оказывается самодостаточной прогрессирующей системой – чем больше мы вынимаем из нее, тем больше она становится. Кратеры памяти помнят о каждом обжигающем прикосновении небес.
29. Я рисую черный квадрат Малевича на стеклянном бокале. В квадрате отражается мое лицо, комната и картины на стенах. Мой бокал становится параллельным миром, в котором только искусственное естественно и только естественное искусственно. Опустошая этот мир одним глотком, я причащаюсь метакосмосу, в котором круг и квадрат, точка и плоскость есть одно и тоже.
30. Слово становится плотью, плоть обретает крылья. Но нужны ли крылья там, где пространство и время перестали быть? Во второй, после Вселенной, сверхсистеме, где смыслы беседуют друг с другом в порождаемой ими среде, крылья нужны только как воспоминание об эоне, когда существовало притяжение. Мой сверхсмысл невесом, мое внутреннее небо бесконечно. Мысленный ветер не мешает моему полету, так как я остаюсь неподвижным, мое движение равносильно абсолютному покою. Несрочная весна безжизненности. Новая невещественность. Бескрылый полет нематериальной плоти.
134
Человек – это не предмет, а идея.
61
Ну-с, уважаемый Алексей Темников, Рыцарь Двойного Одиночества, можете себя поздравить. Вы проданы, и по хорошей цене. Не обижайтесь, благородный рыцарь, все мы – товар, которым кто-то торгует. Как мышами для эксперимента. А кому, как не поэту, Homo experimentum, изучать опыты, которые над ним ставят? Как это все забавно. И мерзко.
Но так устроен мир. Жизнь – это вечный опыт, Opus Nihili, а мир – это колба с человеческим веществом. Каждый человек – тоже колба. А над нами какой-то незримый химик ставит эксперименты. Взорвется вещество, треснет колба – поставим новую. Не страшно! Ученые не приучены заботиться о колбах. Только иногда хочется спросить: а поймешь ты нас, Химик, когда наконец изучишь? Ради науки можно подопытную мышь разъять по суставам, а боли ее – не понять. Человек – это боль и радость, а не анатомия тела или души. Не поняв боли, ты не поймешь нас, Химик. Вот что я сказал бы Ему, если б мог. Но не могу. Почему? Наверно, потому что Он сам все это знает лучше нас.
Да. Затевая бучу, вы все учли, мой дорогой Демиург. Все, кроме одного. Пространство и время в бреду могут принять сколь угодно причудливые, неожиданные и опасные формы. И чем Вы отделаетесь, наш небесный Шекспир, еще неизвестно. Не вам, а вашему опыту решать вашу судьбу.
Я продаюсь и философствую… Смешно и досадно! Интересно, на сколько лет такой жизни меня хватит?
Понаблюдаем... Эксперимент продолжается!
87
Истина – это человек.
63
Через несколько дней после моей встречи с Ледой Аркадий Рудницкий позвонил мне и пригласил в гости – надо было поговорить. Я приехал к Аркадию в тот же вечер. Рудницкий жил недалеко от Глинского, в пятиэтажной хрущевке, я с трудом нашел ее среди множества таких же строений. В доме не было лифта, на четвертый этаж пришлось подниматься пешком. Я имел возможность полюбоваться разбитой лестницей, никогда не закрывавшимися почтовыми ящиками и кактусами, стоявшими на окнах лестничных проемов. Подойдя к двери квартиры 17, я нажал на кнопку звонка, услышал громкое чириканье и голос хозяина: «Дверь не заперта, заходи!» Я вошел к Аркадию и впервые оглядел обстановку его обители. Большая комната была перегорожена несколькими шкафами, судя по всему, постоянно передвигавшимися, стоявшими по диагонали друг к другу. Всюду – на полках, на полу – лежали книги. К шкафам и штабелям из книг были прислонены картины, подарки знакомых художников. Еще несколько картин и фотографий висело по стенам, я обратил внимание на прикрепленную кнопкой к полусодранным обоям фотографию Леды, сделанную в избе Глинского. Стола в комнате не было, зато посреди штабелей с книгами стояло несколько табуреток, также заставленных книгами и рукописями, на одной стояла грязная кружка с недопитым чаем на дне.
Аркадий сидел на табуретке у подоконника, заставленного горшками с цветами, и меланхолично разминал пальцами лепестки. Эти цветы, розовые, твердые и мясистые, словно сделанные из нарезанной тонко ветчины, раздражали его. Он держал их у себя специально, чтобы было на что злиться.
С полки книжного шкафа на Аркадия понимающе смотрел гипсовый череп Бонифаций – лучший друг философа. Как-то, бродя по городу, Рудницкий забрел в лавку художника, увидел на полке череп и без раздумий купил. Бонифаций ему сразу понравился, это был красавчик с аристократическими чертами, жизнелюбивым и доброжелательным выражением челюстей. Его полным именем было Бонифаций-Вольдемар Бакшиш-Сибирский, но в минуты тягостных раздумий Аркадий мог назвать его просто Боней. Череп был единственным, кто всегда понимал Рудницкого.
Соломенная кукла Акулина, подаренная Аркадию неадекватной поклонницей на литературном вечере, расставила в стороны плетеные руки, воздела к небу соломенную голову, так что две мохнатые косички встали дыбом, и застыла в недоумении. Большим умом кукла явно не отличалась. Она была намного скучнее Бонифация и хуже, чем череп, совпадала с энергетикой квартиры Аркадия. Акулину водрузили на шкаф, под самый потолок, оттуда многого нельзя было увидеть. Так было спокойнее не только Аркадию, но и Акулине. Но сейчас она все видела, и ее соломенной душе не было покоя.
Мне тоже было не по себе в обстановке квартиры Аркадия. Слишком в ней сейчас было тихо, слишком серо, слишком безжизненно. Казалось, что здесь нет ни хлама, ни мебели, ни меня, только одно бесплотное и мучительное ощущение населяло комнату, и это был – Рудницкий. Лицо Аркадия, серое и скукожившееся, напоминало сухую курагу. Только растрепанная соломенная грива слабо светилась над ним.
Аркадий молчал. Я минуту помешкал и решил заговорить.
– Что ж ты это, брат? – прошептал я, вспомнив приветствие “веселых братьев”. – Устал? Писать очень трудно? Творческий кризис… Бывает. Но это жизнь. Се ля ви…
– Нет… – голос Рудницкого был еле слышен. – Я не устал. У меня просто по жизни депрессия. Врожденная. Сколько себя помню… Думаешь, Алеха, я насмешек их боюсь? Этих… наших, бес… бес… беспочвенных? А?...
– Чего же еще? – я попытался улыбнуться, но не получилось. – Вон как дрожишь. Страх сам себя выдает. Точно боишься!
– Боюсь… верно. Но не насмешек, не ругани. Не наших идиотов… Пусть издеваются, мне это наоборот даже нравится. Отвлекает немного… Что они все? Пена. Сегодня поднялась, завтра растворится. А мы спрячемся в глубине. Мне не пены страшно, мне глубины страшно! Понимаешь?
– Не понимаю. Ты бредишь, да?… «Глубины страшно»…… Заговариваешься! – я начал говорить грубо, но осекся.
– Нет, нет. Я все объясню, – Аркадий застрочил, как пулемет. – Я себя испугался. Как я мог такое понимать, чувствовать и не окаменеть? Смотрю в себя, в глубину, – а там плоско. Как если бы долго падал в пропасть, думал: нет у нее дна, – а вот оно, дно! Есть оно! Есть! И разбиваешься. Так и у меня… Потому и больно.
Голос Аркадия дрожал, как бабочка, наколотая на булавку. Любой бы пожалел его. Но я увлекся, и меня понесло, как Остапа. Для меня не было ни этой комнаты, ни друга, только слова и мысли, увлекающие в полет.
– И что, эта боль тебе жить не дает? – кричал я. – Боль нужна, чтобы ее лечить. А тебе она не дает лечиться? И кто тогда кому хозяин – ты боли или боль – тебе? – я сглотнул и продолжил. – Прости, снова спорю. Не до того сейчас. Но я философ, я опасен. Как и ты. Бывает. Потянуло…
– Ничего. Мне все все равно. Все вокруг плоское, серое. Как дно, на которое я упал. Мы все упали… Скучно.
– Это как? Не страшно, а скучно? Жить скучно?
– Не жить, нет… Человеком быть скучно. Понимаешь? Не то чтобы больно или стыдно. Скучно. Не в ту сторону живем. Вширь, а не вглубь, – Аркадий глухо шмыгал носом. – Все серо, плоско… неуютно. Мимо жизни живу. Время летит, а я в нем – нет. Ни жизнь, ни смерть. Жизнесмерть. Вот словцо хорошее. Запомни, может, пригодится. У тебя есть стихи. В них можно лицо спрятать. А я уже писать не могу. Скучно мне, скучно…
Рудницкий уже не мог говорить и только тяжело дышал, как проколотый мяч, из которого выходил воздух. Да и Рудницкий ли это был? То, что лежало передо мной, не могло иметь имени, – это вещество жизни переходило из одного состояния в другое, меняя форму, название и сущность.
От этой невыносимой работы хотелось забыться. Аркадий закрыл глаза ладонями. Мне показалось, что огненные зрачки светят сквозь его ладони. Я зажмурился, поднял веки – видение пропало.
Разговаривать было больше не о чем.
Вернувшись домой, я прочитал в мессенджере, что Аркадий покончил с собой. Мне написал об этом Гофман. Оказывается, Рудницкий давно был влюблен в Леду, остальные девушки были только прикрытием, статистками в спектакле, который он разыгрывал, чтобы вызвать ревность у своей Елены Прекрасной. Когда ему стала известно, что Леда проявила интерес к другому, Аркадий решил лишить себя жизни, перед этим испытав последнее удовольствие – вызвать меня к себе, как последнего друга, и исповедоваться мне, выпить до капельки свое унижение, свою нищету, свою ненужность, насладиться ими – и полезть в петлю. Пока я ехал домой, он прикрепил веревку к крюку для люстры, оттолкнул табуретку и повис, глядя на ненавистные ему цветы на подоконнике. Короткое и ясное сообщение о своей смерти, – «Подавитесь моим трупом», – он отправил всем участникам нашего братства, кроме Леды и меня. Гофман первым приехал к Аркадию и достал его из петли. Спасти Рудницкого было уже нельзя.
82
ИЗ ФИЛОСОФСКИХ ЗАПИСОК МИХАИЛА ГЛИНСКОГО
Ничто – абстракция, являющаяся индивидуальным достоянием каждого человека. Один из важнейших элементов той Пустоты, на которую опирается в своем существовании человеческая цивилизация.
Ничто является личным достоянием любого из нас. У каждого человека есть свое Ничто, и каждый человек представляет из себя цельность только наедине со своим индивидуальным Ничто. Мы живем, храня в себе свое Ничто, боясь его и воюя с ним, иногда заключая перемирие и даже принимая его во временные союзники. Сознание своего пребывания на грани небытия придает ощущению жизни особую остроту и заставляет активнее искать в ней смысл, а в случае отсутствия такового – конструировать новый. Поэтому Ничто надо воспринимать как положительное начало, как вынужденного друга, своим неприятным присутствием не позволяющего нам забываться. Избавиться от него нельзя, значит, надо пытаться извлечь из него пользу. Тем более что материала для экспериментов предостаточно, особенно в наши дни, когда Ничта вокруг нас так много.
71
Я никогда не боялся быть наказанным, но боялся быть виноватым. И именно поэтому вел себя так, что меня никогда не наказывали, а вину я чувствовал всегда – так было приятнее. Рану бередить всегда приятно. Люди хотят даже, чтобы их ранили, морально, например, чтобы раной потом гордиться. Здоровье – вещь обычная, а вот редкая болячка – это достижение!
76
Вечер памяти Рудницкого проходил в редакции журнала «Пылежуйские огни».
Главный редактор журнала на поминки не пришел, так как был уже в невменяемом состоянии от заранее принятого алкоголя. Распорядителем застолья был назначен заведующий отделом прозы «Пылежуйских огней» Павел Николаевич Свирский. Высокий, рыжий, с резкой, решительной речью, весь – движение, весь – будущее, он восседал во главе стола. Его рябое вытянутое лицо в ореоле пламенеющих волос напоминало шницель с морковным гарниром.
Глухим, равнодушным голосом функционера Свирский читал стихи Аркадия – «Комедию дель Арте»:
Пьеро некстати улыбается, и сцена
начинает движение в небо. Зал сворачивается
в свиток, испещренный глазами и лицами.
Арлекин жонглирует масками богов.
Кулисы падают на актеров, в движении
дематериализуясь. Панталоне берет книгу,
но она вылетает из его рук, как бабочка,
светясь окрылившимися страницами.
Коломбина аплодирует закату солнца. Закат
реинкарнируется в рассвет. Пьеро улыбается
улыбкой Будды. Единственный Зритель,
состоящий из одного глаза, доволен.
Солнце становится, как власяница, и луна делается,
как кровь. Женщины
возвращаются в ребра мужчин. Слышно: «да будет свет!»,
и комедия начинается сначала…
Гофман, Тугарин, Гуляев и прочие сидели за столом, пили водку, не чокаясь, закусывали колбасой и маленькими бутербродиками, по очереди читали стихи – Рудницкого и свои, рассказывали интересные истории про покойного. Для них уход коллеги был только поводом собраться и вспомнить былые совместные похождения. Мне было невесело, я с трудом выносил это зрелище. А вокруг раздавались невнятные возгласы, перепевались давно знакомые вещи:
– Быть живым – и только!
– Он был живым до конца.
– Как хорошо, что Аркадий был!
– Не был, а есть.
– Не говори с тоской: их нет, но с благодарностию: были.
– Сколько он нам оставил.
– А сколько он мог написать!
– Но он не мог иначе.
– Он мог писать только так, в депрессии.
– Кому-то полагался крест.
– Он сам выбрал эту дорогу.
– Мы пойдем другим путем.
– А Аркадию низкий поклон.
– Он совершил подвиг.
– Смертью?
– Жизнью.
– Жизнесмертью.
– Будем печатать его стихи.
– Какие у него были хорошие строчки!
– И вот еще…
– И вот…
– Не могу поверить, что его больше нет!
– Он есть. Поэты не умирают.
– Да, они только уходят.
– Они живут не в своем теле, а в своих стихах.
– Со стихами не выпьешь, а с человеком – можно!
– Что, совестно, что сейчас поиздеваться не над кем?
– Да не издевался я над ним!
– Все над ним издевались. Над самым талантливым…
– Он сам выбрал эту дорогу. Ему самому это нравилось!
– Он был мазохист! Любил боль и смерть! Все его стихи об этом!
– Выпьем за боль!
– Нет, за поэзию!
– За вечность!
– За жизнь в поэзии!
– За вашу и нашу вечность!
– За жизнь!
– Ур-ра!
Захмелевший Тугарин, наклонившись ко мне, бормотал:
– А ведь это я подговорил Аркашу самоубиться. Я долго ему внушал эту идею. Говорил, что жизнь ничего не стоит, что ему ничего хорошего не светит. У него ведь определили шизофрению, из библиотеки уволили, работать ему теперь нигде нельзя, он живет на деньги бабушки, когда она умрет, он или будет бомжом, или окажется в психушке, так не лучше ли сейчас, когда еще есть крыша над головой, чтобы хоть могила осталась, еще и прославится после самоубийства… Он сначала тихо мои речи слушал, не возражал, потом начал обсуждать со мной детали, как сделать так, чтобы покрасивше. И этот план, из-за Леды, мы с ним вдвоем придумали. Я хотел потешиться – насколько я умею людям внушать всякое, раздавить слабака, чтобы на земле чище стало. А теперь чувствую – мне тоскливо. На такую же тоску Аркаша постоянно жаловался. И жить не хочется… Снится Аркан, его мертвое тело, лежит передо мной, и так хочется туда… к нему… Словно его дух в меня вселился и мне мстит за свою смерть. И не знаю, что теперь делать… Я смерти не боюсь. Я уже мертв. Мы все живы и мертвы одновременно. Интересная штука жизнь!
Я слегка отстранялся от Тугарина и не отвечал ему. Я понимал, что он – циник, но романтичный, идеализирующий свой цинизм. А романтизм – это штука, полезная в литературе, но вредная в жизни. Представить будущее такого мечтательного мальчика можно было легко, но делать этого не хотелось. Гораздо больше меня интересовало свое будущее, то, куда мне теперь плыть, но представить себе это я не мог, как ни старался.
77
Слава – это почетная форма позора.
72
Древние богословы объясняли смертность человека наказанием за его греховность, но, на мой взгляд, греховность сама является следствием смертности. Пока в мире есть смерть, в нем есть и борьба за существование, подразумевающая насилие. Нет борьбы без насилия, нет развития без борьбы (развитие – это борьба и единство противоположностей). А без развития, без эволюции не может быть и жизни – все живое либо развивается, либо деградирует, все, что перестает расти, начинает ветшать, все, что перестает совершенствоваться, начинает свой путь к смерти, к уничтожению. Да и смерть необходима для обновления биосферы, она биологически целесообразна. Все в этом мире разумно, все целесообразно, даже зло! Наш мир мерзок, но другого в нашем распоряжении, к сожалению, нет. И если мы хотим жить в этом мире, мы должны подчиняться его правилам и при необходимости вступать на путь зла.
81
Я пришел к выводу, что люди боятся смерти не потому, что она страшна, – она не страшнее жизни, – а потому, что им велит бояться смерти животный инстинкт самосохранения. Он есть у всех животных. Он необходим для выживания, но лишен каких-либо логических оснований (как и любовь к себе, к ближнему, к удовольствиям и к жизни). Это инстинкт, от него никуда не деться. Но смысла у него нет. Совершенный искусственный интеллект, лишенный генов и нервов, смерти бы не боялся и себя бы не любил. Я – только точка на плоскости, единичная человеческая особь, одна из многих, поэтому беречь себя больше, чем других особей, нет никакого смысла. Беречь надо того, кто приносит пользу обществу, а не себя и не родных. Так говорит здравый смысл. А инстинкт велит любить себя, любить своих, жрать чужих, защищать детенышей, загрызать раненых товарищей и бояться смерти. И ни-ку-да от него не деться. На этом стоит мир.
25
Сегодняшнее утро выдалось серое, безблагодатное. В воздухе было сыро, пахло прошлогодней гнилой травой, и наивный ветер снова поднимал к небу сухие листья. Я шел мимо старой церкви, утопая по щиколотку в грязи, и зло оглядывался на высокие серые стены. Меня раздражало все, что я видел.
Перед моим мысленным взором проносились картины моей жизни – слякоть, сырой воздух, холод коридоров, грязь на ботинках, угрюмые лица рабочих, злые взгляды интеллигентов, гогот пьяных подростков. Что двадцать лет назад, что десять, что сейчас. Везде, везде, везде – боль, угроза, разочарование. Непонимание, как и почему мы в этой плоской бездне оказались. Да, эта бездна – плоская, а мы, объемные, барахтаемся в прилипчивой плоскости, как мухи, попавшие в паутину. И не вырвемся, пока сами не станем плоскими. А плоскому в плоском мире очень даже комфортно, гуляй – не хочу. И какой тут может быть выход? Только прорвать плоскость – и упасть в глубину.
Глубина затянет, да. Но хотя бы не сотрет. Это хоть чуть-чуть лучше, чем стать плоской тенью. Но чтобы пробить поверхность, нужен удар большой силы… Какой? Война. Революция. Или и то, и другое. Главное – чтобы войну эту или революцию делали не мещане. Все неудавшиеся революции захлебывались в своем мещанстве. Нет, нам нужны герои. А где их взять? Самому становиться, что ли? Кишка тонка. Не знаешь, есть ты на самом деле или нет, а тут – изволь бросаться на амбразуру… Я-то брошусь, да пули пролетят сквозь меня и укокошат тех, кто стоит за мной. И все будет зря. Бессмысленный подвиг. Глупый героизм.
57
Мудрость – это умение красиво обманывать себя.
94
ГДЕ-ТО, КОГДА-ТО
Наше веселое братство пировало в горах, на краю обрыва. Под обрывом далеко, насколько хватало взгляда, простиралось безмятежное море. Обширная терраса, на которой мы находились, была выложена мраморными плитами и огорожена изящной балюстрадой. По краям террасы возвышались сооружения, похожие на гигантские чупа-чупсы – расширяющиеся кверху столбы, увенчанные бело-синими шарами. Над террасой на металлических подпорках возвышалась сделанная из легкого материала прозрачная спираль, изнутри сиявшая всеми цветами радуги. Из недр спирали доносилась тихая мелодичная музыка.
Мы лежали на подушках и передавали друг другу чашу с водой. Вода, которую мы пили, опьяняла, как вино, она не завершалась в чаше, сколько раз бы мы ни приникали к ней устами. Вокруг нас стояли высокие каменные сосуды, наполненные такой же крепкой водой.
Гуляев – тучный, с длинными белесыми волосами вокруг лысины – поднимал чашу к небу и только после этого пил из нее. Рудницкий молча сидел рядом с ним и, не моргая, смотрел на Леду.
– Аркан! Эй!... Почему он так смотрит на тебя? – шевеля усами, спросил у него Гофман.
– Он не может сказать ни слова, потому что обессилен, – потупив взор, проговорила Леда. – Он принес мне слишком большую жертву. Я обещала ему свою любовь в обмен на то, что он покончит с собой… Я не думала, что он и правда так сделает.
Под взглядом Аркадия Леда постепенно каменела, словно он высасывал из нее жизнь. Несколько минут напряженного молчания – и она превратилась в памятник, в позолоченную статую прекрасной женщины, сидящей с чашей в руке и опустившей взгляд к земле.
– А давай залезем на изваяние, чтобы с него прочитать стихи! – предложил захмелевший Гуляев. Сутулый Тугарин, кряхтя, попытался залезть на статую Леды, но Михаил Степанович прикрикнул на него: «Не вандалуй!» Гуляев жестом отстранил Глинского и ободряюще кивнул Тугарину: «Ты великий поэт, насри на все. Тебе все можно». Наверное, мое лицо во время этой перепалки приняло слишком удивленное выражение, потому что Панька сделал и в мою сторону успокаивающий жест: «А ты, меченый, не суйся. Подрастешь – все поймешь. Нам позволено многое» – и перекрестил меня. С неба спустился серый ангел, от взмахов его крыл воздух вокруг становился серым. Он поднял Гуляева с нашей террасы и вознес на небо, на солнце, которое по мере приближения к нему ангела превратилось в луну. Там, на Луне, предстоит теперь жить Паньке Гуляеву… Тугарин, которого ангел случайно коснулся крылом, превратился в неандертальца – на меня взглянуло страшное звероподобное лицо: вытянутый череп, низкий заросший лоб с большими надбровными дугами, темные глубоко посаженные глазенки, широкий мясистый нос, первобытные скулы, выступающие вперед хищные челюсти с оскаленными по-волчьи длинными клыками… Пещерный зверь вглядывался в меня бессмысленными глазами и щерил натруженные хищные зубы, и непоколебимой властью веяло от его звероподобных черт. Прошло несколько невыносимо долгих мгновений, и черты троглодита перемешались: зубы и подбородок взлетели на лоб, глаза провалились куда-то вовнутрь, нос скользнул вниз, и лицо распалось на пятна, вертящиеся звездочки и палочки, в кружении которых утонуло мое сознание.
84
Когда поминки завершились, я долго бродил пешком по городу. Летний вечер был безвыходно тих, ни ветерка, ни яркого солнечного луча – только серое небо, зеленая листва и тополиный пух. Я бродил по дворам, избегая шумных проспектов, смотрел на играющих детей, дремлющих на скамейках бабушек, на воробьев, купающихся в пыли, и чувствовал себя чужим этому спокойному, благополучному миру. Время текло незаметно для меня, я ни о чем не думал, только переживал глубокую внутреннюю боль: из-за меня погиб Аркадий, из-за меня… Я сам не заметил, как дорога привела меня к храму, старинному, построенному незадолго до революции и работавшему даже при советской власти. Я медленно приотворил тяжелые двери и зашел внутрь.
Храм был тих и темен, словно колодец. От золотых рам все в нем отсвечивало золотом. Волны полутьмы, едва тревожимые свечами, сходились и расходились над головами богомольного люда. Свет тускло падал через узкие окна в куполе, порождая над толпой бронзовое свечение. В глубине храма, в глухоте времен светились головы стариков. Они стояли, древние, тихие, седобородые, – они казались древнее Авраама и стад его, древнее Ноя и его сыновей, они словно пришли сюда из первозданности, из эпохи первых скотоводов и землепашцев. Но над ними, выше света и тьмы, безмолствовал Он – Зодчий сумерек, Пастух вселенской тьмы, Первотворец, Зиждитель всего сущего. Его тонкий сумрак, как ладони, касался обнаженных лбов молящихся, освобождая их ото всякого греха и добавляя их делам и мыслям новую, благодатную тяжесть.
Служба шла. Народ двигал свою большую тесноту медленно, величаво. Юродивый сидел у стены, держа в руке свечу и не замечая, как расплавленный воск стекает прямо на грязные пальцы. Я наблюдал за службой, замечая вокруг живые, одухотворенные народные лица, как на картинах Сурикова, и впервые за долгое время почувствовал мир красочным, объемным, полным непонятного, но несомненно существующего смысла, а себя – живым, настоящим.
Я не готовился к службе, но, если такая возможность предоставилась, исповедовался в своих грехах. Священник, по национальности грузин, с почти сталинским акцентом объяснил мне: «Любящий неправду ненавидит свою душу. Низведет он на грешников сети: огонь, и сера, и дух бурный – их доля из чаши». Я склонился перед священником, он накрыл мне голову тяжелой епитрахилью и прочитал молитвы, и мне показалось, что что-то за меня уже решено – там, вверху, где решаются судьбы, и что это решение правильно. Грех был отпущен, на душе стало легко и торжественно.
98
Я видел свою смерть. Мне тяжело говорить об этом, пока я еще живу, пока дышу. Но такова моя работа – не отводя взгляда, вести безыскусный отчет о том, что пережил. Я видел, как, усталый, тихий и покорный, я лежу на белых простынях в тесной серой комнате. Я ни о чем не жалею – я сделал в этой жизни все, что должен был. Все свершено, все, чему должно было произойти, совершилось. Вокруг меня суетятся родственники, трогательные, робкие, ничего не понимающие, и я почти не смотрю на них. Я гляжу в открытое окно на серые крыши, шпили, белые стены, на бесцветность буднего дня, и в полусне чувствую, как кто-то тихий, склоняясь над моей постелью, говорит мне: «Ты умираешь – радуйся, философ, фигляр, свой собственный апостол и пророк. Скоро ты будешь причтен к лику усопших поэтов и станешь еще одним из мудрых и безжизненных лиц, смотрящих с портретов в школьных классах. Ты выполнил свою работу до конца, ты создал новое искусство и оскорбил его собой. Радуйся сейчас, ибо за порогом земного мира ты не обретешь радости – тебя ждет бессмысленная вечность и омерзительный покой, без мыслей, без чувств, без слов. Радуйся, уходящий, вкусивший плода с древа познания». Он шепчет, склоняясь надо мной, говорит дальше и дальше, а я не слушаю его – я рад, что больше не увижу земной пошлости, что не испытаю скуки, и в мои окна смотрит, приглашая к ласковому небытию, такой обыкновенный, прозаичный и восхитительно бессмысленный белый день.
49
ИЗ ФИЛОСОФСКИХ ЗАПИСОК
МИХАИЛА ГЛИНСКОГО
Время – материальная стихия, служащая максимально ясным выражением Великого Ничто, первоосновы всего существующего и меры всех вещей. Время воплощает собой закон отрицания отрицания: каждый следующий миг отрицает предыдущий и этим создает нечто новое. Время есть воплощение мировой Воли к преображению, к метаморфозе, которая создает и разрушает все в этом мире и в конечном счете является волей к Ничто.
Время цельно, а пространство дробно; Время дионисийно, а Пространство аполлонично; время есть Ничто, пространство есть Все. Их борьба и единство создают условия для существования мира.
Воля к Ничто выражается во времени и индивидуализируется в людях. Благодаря человеческой личности слепая и хаотическая мировая Воля начинает сознавать, оценивать и преображать себя. У индивидуации мировой Воли, выраженной во Времени, два этапа вочеловечения: этап мысли и творчества.
Задача человека заключается в том, чтобы дать форму изначально бесформенному – Великому Ничто. Пустота бесформенна, но граница оформленного предмета с пустотой есть и граница пустоты с предметом, а значит, часть формы пустоты. То есть, соприкасаясь с Ничто, мы придаем ему форму. В этом наше призвание – очеловечивать мировую волю.
Я хочу, но не могу поверить в личностного Бога, в Иисуса Христа, ходившего по земле рядом с людьми. Создатель этого бесчеловечного, но хорошо рассчитанного мира должен быть тоже расчетлив и бесчеловечен. Наш мир мог быть создан только безликим Абсолютом, гегелевским Мировым Духом, лишенным любви, знающим только о целесообразности, а не о справедливости. Я вынужденный гегельянец и идеал-дарвинист. Я не чувствую восторга от моих убеждений, мне больно верить в то, во что я верю, но все, что происходит вокруг, подтверждает мою правоту.
130
Духовность требует не только умерщвления плоти, но и умерщвления души, отказа от своих страстей и вообще от эмоций. Чтобы спастись от смерти, надо спастись от жизни. Только безжизненное бытие может быть бессмертным.
Бог – это не жизнь. Это то, что создает жизнь. Это бытие, бытие духовное. Вечное бесстрастное сияние, в котором нет ни жизни, ни смерти. Не бушующее и угасающее пламя, а ровный спокойный свет.
Божественная любовь бесстрастна, бесконечно светла и холодна. Она милосердна, но чужда жалости. Как солнце, она равно дарит свой свет всему живому и страстному и в равной степени спокойно озаряет наши радости и горести, рождения и смерти, оставаясь столь же чуждой нам, сколь и близкой. И в конечном счете нет для нас ничего ближе, чем она.
102
Жил да был человек, который никогда не рождался и никогда не умрет. Он был красив, поскольку не имел внешности, и умен, так как никогда ничему не учился. Всю свою жизнь, которая была вечной и одновременно бесконечно короткой, он занимался важным делом – создавал смыслы, писал книги, которые никто не прочитает, и картины, которые никто никогда не увидит. Его никто не мог заменить для нашего мира именно потому, что он был абсолютно бесполезен. Он был счастливейшим из людей, потому что никогда не радовался, и всю жизнь тосковал из-за того, что ему не дано было почувствовать настоящую тоску…
О ком я рассказываю? Может быть, о Будде. Может, об Иисусе Христе. Или о Чезаре Борджиа. Или о себе самом. Или о каждом из нас.
85
Из храма домой я вернулся пешком, пройдя почти полгорода, – мне хотелось ногами почувствовать пространство, которое я преодолеваю, город, в котором я живу. Дома не стал ужинать, несколько часов слушал музыку и впитывал в себя долгий летний вечер. Ни о чем не думал, только существовал – и это было облегчением. Когда стемнело, лег в постель, но сон не шел ко мне. Я смотрел в окно, где темень сгущалась над землей, так привычно, словно соответствовала сути этого мира.
Мне казалось, что сумрак спускается не сверху, с неба, а исходит из сердцевины всех вещей. А на горизонте, где темнота небес соприкасалась с темнотой земли, совершалось какое-то тайное движение, словно новая жизнь формировалась из вечерней тьмы. Мой взгляд странствовал по сумрачным пространствам, не прикасаясь к сути и именам вещей, только скользя по их видимой поверхности.
Из форточки в окне, обраставшем дождевыми линиями, дул серый ветер. В нем слышался клекот медленно закипавшего неба, тихий ропот травы и листьев и предчувствие заморозков. Неприятный на ощупь, как мокрая тряпка, холод копошился в рукавах моей пижамы.
Внезапно на границе земли и неба возник двигающийся темный силуэт. Это был давний персонаж моих сновидений – человек, который жил только на линии горизонта, никогда не приближаясь к людям. Его силуэт видели все, но никто не мог встретиться и заговорить с ним, потому что он отдалялся от людей вместе с горизонтом. Но в этот раз странник все ближе подходил ко мне, и черты его лица становились все более четкими.
Вот человек сна подходит к моему окну, вот садится около постели… Комната плывет в мерном вращательном танце. Гость склоняется надо мной…
– Аркадий! Ты?... – беззвучно кричу я.
Призрак, как две капли воды похожий на покойного Рудницкого, – синие глаза, соломенная грива, мятая пестрая рубаха, красный галстук, – протягивает ему ладонь: «Я, я. Успокойся, брат».
Аркадий был таким же, как раньше, только осел, как надувная кукла, из которой вышел воздух. Кукла продолжала улыбаться нарисованными губами, но ее улыбка не имела ни объема, ни глубины. Ее взгляд был мертвым и пустым, как дом, из которого вывезли мебель.
Я взял ладонь мертвого друга в свои руки и внимательно рассмотрел ее, как экспонат, как первое явление цирка смерти. Отметил, как кровь пульсирует по синим и алым прожилкам на коже, как шелушится ладонь.
– Как, ты жив?... – спросил я.
– Я и сам не знаю. Когда-то кажется, что я и раньше не жил, а иногда – что давно умер, но еще не отжил... Люди живы неравномерно. В ком-то живкости больше, в ком-то меньше; смерть от этого и зависит...
– А зачем ты ко мне пришел? Тревожить меня?... – я задыхался от ужаса.
– Я у тебя потому, что ты помнишь обо мне. Люди живы, пока их помнят. И умрут, а еще живут – в вас.
– Ладно, ладно… – я не различал ответов Аркадия, но само то, что он отвечает, успокаивало меня. – А у вас… это… в том мире… как там все?
– У нас? В аду мечтателей? Просто. Все объято пламенем. Только не снаружи, а изнутри. Вот человек к Богу и потек.
– Потек человек… – в бреду я вращал между зубов слова, как плохо растворяющиеся таблетки. – А почему он настолько текуч?
– Человек собой не кончается. Он свое окончание опережает. Оттого и верит в бессмертие…– голос Аркадия звучал глухо, словно доносился изнутри, из моего сердца или живота.
– Бессмертие?... – я попытался задуматься. – А какое оно?... Покажи мне его.
– Вот оно. Гляди! – Рудницкий быстрым движением отдернул штору от окна.
Я напряг глаза. Сначала я видел обычный пейзаж – гладко выбритый газон, дома, асфальт дороги, серый, безразличный. Дерево, на котором не колышется ни листочка… Все замерло. Никаких взрывов, потопов, видимых катастроф. Никаких бегущих и кричащих в панике людей. Просто – покой. Вечный. Неутолимый. Захватывающий. Всепоглощающий.
И вдруг из сердцевины всех вещей начинает ползти туман, серый, волокнистый, протяжный. И в нем растворяется все: люди, деревья, дома. Трава и асфальт. Земля и небо. Все превращается в туман, и ничего уже не схватишь рукой, ничего не удержишь, ничего не спасешь.
Лунный свет, как кислота, разъедает то, что не смогли растворить в себе сумерки. Вечная апатия тумана стирает мир изнутри.
Мир постепенно разрушается, тает, как сахар в воде. Вот уже остался среди безмерного моря один, последний его клочок – клочок зеленеющей земли с надписью «ПО ГАЗОНАМ НЕ ХОДИТЬ!». Дольше всех он остается заметным среди безразличного тумана.
Но вот и этот последней островок памяти поглощен смертью. Мерно колышется туман… Колыханье, качанье, движенье незримых форм… Ничего нет. Только пустота содрогается, как лоно бесплодной женщины. Туман. Покой. Смерть... И только после этого начинается медленное, мучительное воскресение.
Мастер Господь ангельским скальпелем начинает вырезать из тумана новый мир. Из тумана, как из земли, вырезаемые стальными остриями ветра, медленно тянутся тонкие кости человеческих рук. Пальцы шевелятся, как трава под ветром, одеваясь плотью. Комья тумана уплотняются и превращаются во вращающиеся зрачки, встающие на место в глазных впадинах прорастающих из полутьмы черепов… Процесс могильного разложения, мучительный и безобразный, движется в обратном направлении.
Тела обретают человеческое подобие – и только после этого их пронзает нестерпимая, нестерпимая, нестерпимая БОЛЬ воскресения. Ведь если смерть мучительна, то обратный процесс должен быть вдвойне более противоестественным и страшным.
В муках, крови и истошных криках смерти и воскресения ищет человечество свою дорогу к бессмертию.
– Да… Страшно это все, страшно… – бредил я. – А когда это будет?
– Когда человек догонит время, – медленно вещает ему призрак. – Время топчется на дороге, то убыстрится, то застынет, а человек обычно живет вслед ему и редко когда может обогнать. Когда же он время, как коня, поведет за собой под уздцы? Нехорошо, когда слуга управляет хозяином. Время идет по земле, в нижних слоях жизни, а душа стоит столпом от человека до неба и не хочет двигаться. Только растет. И от тяжести души, налегающей сверху, трещина прошла по времени, оно разложилось на мелочи, и собрать его снова труднехонько будет! А чем его собрать? Чем скрепить? Только памятью. У памяти сила смутная, она небо в нас мутит, она и воссоздать время в небесной пустоте, как облачный замок, сможет…
– Мутно это все… Непонятно… – я попытался и не смог даже поднять руку, чтобы вытереть пот со лба. – И как это понять?... Скажи, если можно…
– Это можно понять разумом, конечно. Или совестью. Но лучше детской веры все равно люди ничего пока не придумали...
На этих словах Рудницкий прикоснулся ледяной рукой к моей груди. Боль, как от рассечения природы, пронзила меня, сердце зашлось в бешеном стуке. Гость – бестелесный, огромный, пустой – беззвучно вошел в мою грудь и исчез, как если бы его и не было.
…Ночь медленно ехала по земле, грохоча, как телега, нагруженная запахом звезд, холода и трепещущей листвы.
Я лежал на постели, вытянувшись в струнку, не смея пошевелиться.
Издалека доносились запахи чего-то неуловимо родного и близкого.
Фонари подмигивали звездам.
Ветер стучал незахлопнутой форточкой…
Ночь.
29
На три главных русских вопроса: «Кто виноват?», «Что делать?» и «Доколе?!» – давно найдены такие же прямые, простые и ужасные ответы: «Всяк за всех виноват», «Валить надо» и «До самыя смерти».
65
Сегодня вечером на прогулке меня поразила вроде бы обычная картина: передо мной выступал из сумерек серый, заросший сорняками пустырь. Тихо-тихо шептал о чем-то смурной дождик. Воздух был рябой, словно покрытый гусиной кожей. На фоне серого неба бурым пятном выделялся полуразвалившийся бревенчатый дом. Тишина была шершава, как наждак. На земле, среди желтой травы, зарослей репейника и бурьяна валялись использованные шприцы и куски бутылок. Над ними блуждали тусклые огоньки, похожие на болотные. Меня охватил мистический озноб. Это был не просто пустырь – это был земной образ серой скупой вечности, простершейся пустырем от края до края страны.
Образ метафизического пустыря навсегда остался в моей памяти. Все чаще, злой, упрямый, получив на работе очередную порцию бессмысленных хлопот, саркастических насмешек и пустого цинизма, я прихожу домой, не раздеваясь, падаю на диван, поворачиваюсь лицом к стене и сжимаю ладонями пульсирующие виски, и между мной и небом плотной стеной встает розовый туман, а в нем медленно всплывает забытый всеми, кроме меня, пустырь. И горько и втайне отрадно мне видеть то, откуда я вышел и куда рано или поздно приду.
86
ИЗ ФИЛОСОФСКИХ ЗАПИСОК МИХАИЛА ГЛИНСКОГО
Мысль о Боге есть первая мысль человека, – учил Бердяев. Человеку свойственно иметь перед своим духовным горизонтом некий образ, наделенный максимально прекрасными и глубокими духовными качествами, всемогуществом, всеблагостью и всесвятостью, – Образ Совершенства (термин Солженицына). Но действительность непрерывно противоречит этому Образу, доказывая его невозможность. Если в мире есть зло, то как может Бог допустить его существование? Теодицея – оправдание Бога – на протяжении тысяч лет не смогла найти достаточно полного ответа на этот вопрос. В этом – причина многовековых споров, войн и трагедий (не всех ли настоящих трагедий в истории человечества?) Люди пытаются разрешить этот вопрос, понять, что есть Бог, стремятся объять необъятное.
Луначарский дал определение Богу: Бог есть человечество в высшей потенции. В этом определении есть доля истины. Все представления человека о Боге есть представления о некоем сверхсовершенном человекообразном существе, в зверобога человек верить уже не способен.
Важнейшим открытием девятнадцатого века было открытие эволюции. Пьер Тейяр де Шарден вознес теорию эволюции на уровень новой мировой религии. Бог воспринимался им как первый толчок, давший начало эволюционному процессу. Но это положение во многом спорно: всеблагой Бог не может дать начало грандиозной мясорубке естественного отбора, по сравнению с инфернальностью которой все пытки Третьего рейха – детские забавы. Кроме того, имеются факты, в корне противоречащие учению Тейяра де Шардена об эволюции человечества как смысле существования Земли: человечество практически не эволюционирует в физическом отношении, за последние несколько тысяч лет организм шимпанзе изменился в лучшую сторону в гораздо большей степени, чем организм человека. Не является ли эволюция, сведенная только к развитию мозга, ложной эволюцией?
Другой пример: несколько десятков тысяч лет назад на юге Африки жил вид приматов, отличавшихся гораздо более совершенным мозгом, чем человек. Эти приматы, черепные коробки которых были гораздо больше человеческих, практически сразу после своего возникновения вымерли, уступив место более проворным и активным, но менее разумным неандертальцам. Огромный мозг не гарантировал этим животным места в истории. Не является ли и человечество таким же, только более сложным казусом органической истории? Тейярдизм не дает разрешения этим проблемам.
Понять смысл эволюционного развития можно, только построив единую структуру космической эволюции, отведя в ней место человеку и Богу. Бог как элемент процесса эволюции – вот тот тезис, который не смог обосновать Тейяр де Шарден и который должен быть обоснован либо опровергнут наукой в первую очередь, ибо от него зависит, найдут ли свое оправдание колоссальные затраты инферно естественного отбора или нет? Структура эволюции может быть кратко обрисована следующим образом. Личный человеческий онтогенез включается во всеобщую общечеловеческую структуру антропогенеза, которая, в свою очередь, есть стержень космогенеза. Но и космогенез есть часть некоего более важного процесса – теогенеза, созидания Бога. Смысл эволюции – созидание Бога! Бог есть не первопричина развития Вселенной, а его итог. Первый микроорганизм на пустынной Земле в ходе миллиардов лет эволюции позволил появиться на свет жизни разумной – человеку, а человек – единственная разумная (т. е. имеющая представление об образе Совершенства) жизнь – в ходе неизмеримого срока эволюции должна дать начало новой, сверхразумной сверхжизни – цель более высокая и заманчивая, чем коммунизм, тысячелетнее царство или возникновение сверхчеловека!
Какую форму приобретет будущая сверхжизнь? Она должна быть поистине универсальна и вездесуща, она должна удовлетворять главному стремлению человечества – стремлению к единству. Если Тейяр де Шарден и Вернадский создавали теорию ноосферы, сферы разума, по-новому организующей жизнь Земли, то не является ли ноосфера зачатком будущей теосферы, Божественной среды, почти соответствующей определению Тейяра де Шардена, но самобытийной, самосозидающейся и самоуправляемой? Войны, потрясающие биосферу, должны перейти на уровень ноосферы и стать родовыми схватками планеты, переходящей на новый уровень бытия, на котором сознание, достигая высшей стадии своего развития, становится действенным фактором существования Вселенной и новой формой бытия одухотворенной материи. Все утраты и потери, которые приносит жизнь на пути к сверхжизни, совершаются без санкции только начинающей формироваться высшей силы, но оправдываются, ибо их ценой покупается грядущая сверхжизнь. Бытие каждого человека в частности и всего человечества вообще получает новый, великий смысл, – мы участвуем в процессе Творения, мы преобразуем само вещество существования, мы – теогенетики – созидаем Бога! Вместе с тем это мировоззрение лишено оттенка горделивого «будьте как боги», ибо само приближение к сверхжизни остается для нас чрезвычайно отдаленным и туманным, мы не становимся человекобогами, а превращаем себя только в ступени той грандиозной лестницы, по которой само Бытие восходит ко Всебытию.
Но возможен ли путь от жизни к сверхжизни без колоссальных затрат живой силы? Вполне возможно, в природе действует параллельно два процесса – эволюции и регресса. Насколько живое существо развивается в одном из отношений, настолько же оно деградирует в другом. Так, человек, со всем совершенством своего разума, не может изобрести средство для преодоления смерти, тогда как одноклеточные существа, не зная размножения, фактически бессмертны. Возможно, прыжок от жизни к сверхжизни будет сопровождаться другим, столь же колоссальным отступлением от смерти к сверхсмерти? Четыре стадии эволюции, выделенные тейярдизмом, – стадии преджизни, жизни, мысли и сверхжизни, – могут быть столь же неоспоримо заменены на стадии предсмерти (одноклеточные, деление которых есть форма бессмертия), смерти (вся неразумная жизнь, подверженная исчезновению), мысли (человечество) – и грядущей сверхсмерти. (Мысль при этом остается единственным общим элементом двух цепей истории мироздания!) Перспективы сверхсмерти настолько ужасающи, что представить их на данный момент практически невозможно… Разрешение этой проблемы – дело науки будущего.
Перспективы теогенеза еще неясны для нас, но истоки нашего стремлении к сверхжизни изначально заложены в каждом человеке, стремящемся к совершенству. Единственное, что несомненно, – это то, что каждый человек по мере своих сил должен стремиться к максимальному развитию всех своих способностей, и прежде всего созидательных, и что этот процесс развития необходим Вселенной. Об этом мы вольны говорить, пока мы находимся в сферах, доступных нашему разуму, но мы умолкаем там, где наши голоса становятся неслышными перед грозной тишиной грядущего Сверхбытия.
Инстинкт – один из основных факторов, определяющих человеческую жизнь. Человек далеко не так разумен, как это может показаться. Все главные человеческие страсти, на которых строится цивилизация, – любовь к себе, любовь к людям, любовь к родине, воля к власти, жажда познания и чувство прекрасного, – не могут быть никак рационально объяснены. Они по сути своей являются усложненными и облагороженными формами животных инстинктов, основной из которых – это инстинкт сохранения жизни. Следствиями развития этого инстинкта являются и стадное чувство, трансформирующееся в любовь к семье и родине, и любовь к детям, необходимая для продолжения рода и жизни на земле, и стремление к добру, красоте и правде – высшим качествам идеальной жизни. Все эти эмоции не имеют строгого логического основания, но отвергнуть их полностью невозможно, как невозможно убить в себе инстинкты питания и сна. Отказ от этих инстинктов был бы губителен, так как жить без эмоций в мире, руководствующемся преимущественно эмоциями, значит лишить себя связи с этим миром и приговорить себя к гибели. Поэтому следует подчиняться биологическим инстинктам в той мере, в какой они не вступают в отчаянное противоречие с разумом, но при этом понимать их условность и не принимать голоса слепой природы за выражение абсолютной истины.
119
ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ ИНТРОВЕРТА
1. Отгородись от внешнего мира. Обнеси свою душу с четырех сторон прочными стенами, за которые не сможет проникнуть ничто лишнее. Живи в огороженной тобой пустоте, соблюдай ее чистоту, возделывай свое одиночество и тишину вокруг себя – и вскоре ты почувствуешь, что эта пустота на самом деле есть наполненность. В серости вокруг тебя начнет мерцать некий невещественный свет, исходящий от незримого сокровища, созданного силой твоей медитации. Храни свое внутреннее сокровище и оберегай от внешнего мира, знай: весь мир, бессмысленный и беспорядочный, вертится вокруг него.
2. Твори. Запечатлевай в вечных формах образы твоей души, размышлений и переживаний, порхающих в воздухе вокруг твоего внутреннего сокровища. Разговаривай сам с собой больше, чем с окружающими, истина рождается только в спорах с собой, остальные споры бесплодны.
3. Будь автономен. Не подчиняйся материальному миру и его вождям, но будь верен духовному миру и его императивам. Подчини все свои мысли и чувства категорическому императиву, тогда в тебе выплавится железобетонный внутренний стержень, и вселенная не сможет сломать его, а ты силой убеждений обрушишь мир к своим ногам.
4. Мечтай. Живи исключительно мечтами. Пей воображаемый коньяк, люби воображаемых женщин, путешествуй по воображаемым странам. Художественный вымысел больше всего заслуживает того, чтобы ему верить.
5. Помни. Запоминай все, что случается с тобой. Сохраняй в себе прошлое, и оно станет вечностью. Лучшая сокровищница – чердак, заваленный старым хламом. Люби музейную пыль, она сродни звездной. Пусть в пыли и серости зародится твоя внутренняя звезда.
6. Будь чуток к другим. Будь раним и уязвим. В уязвимости скрывается высшая сила. Будь матрешкой: снаружи – спокойным и выдержанным, глубже – тревожным и беззащитным, в сокровенной глубине – предельно бесчувственным и рациональным. Весь мир строится по принципу матрешки: в любом явлении таится бездна, в ней – другая бездна, третья, четвертая и так до бесконечности. И все они разговаривают друг с другом на разных языках.
7. Доверяй, но проверяй. Помни, что все люди – матрешки и могут обмануть, даже не догадываясь об этом. Поэтому верить можно только своему опыту, лучше мучительному и неоднократно повторявшемуся. Всяк человек ложь, и только раны на сердце правдивы.
8. Семь раз примерь, один раз отрежь. А если уже начал резать, режь до конца, чего бы это не стоило. Будь верен любому принятому тобой решению, даже если оно неверно: измена неправде все равно зовется изменой. А чтобы не принимать неверные решения, максимально тщательно обдумывай каждый шаг.
9.Скрывай за тихими словами твердую позицию. Будь вежлив даже с врагами, но в случае конфликта бей наотмашь, чтобы от уничтоженных врагов даже мокрого места не осталось. Будь перфекционистом и соблюдай чистоту.
10. Никогда не иди на конфликт первым, но если на тебя напали, будь тверд в отстаивании правды. Веди только оборонительные войны: ответственность за любой конфликт лежит исключительно на том, кто его начинает. Обороняйся до конца, будь крепостью, которую можно разрушить, но нельзя взять, и помни: воздушные замки снести невозможно.
68
Канитель, именуемая жизнью, возведенная в степень вечности, – вещь обременительная. Большинство людей хотят бессмертия, руководствуясь при этом слепым инстинктом, заложенным в нас миллионами лет эволюции, – любовью к жизни. Этот инстинкт, как и большая часть человеческих «любовей» и «страхов», не имеет никакого разумного обоснования. С точки зрения беспристрастного разума смерть необходима для обновления жизни, в ней нет ничего ни прекрасного, ни ужасного. Но во всем живом генетически заложен инстинкт сохранения жизни, необходимый, чтобы биологические виды не вымирали раньше времени. В животном мире он полезен, но в мире человеческом, превратившись в мечту о бессмертии, он становится катастрофическим. Поэтому стремление к бессмертию не должно быть свойственно людям, разумным в полной мере.
Мы стремимся к вечному бытию, не представляя, что такое вечность, у нас не может быть даже развитого представления и планов о том, что мы будем делать там, в вечности. На деле для человека мудрого бывает достаточно того срока жизни, который отпускает нам природа. Семидесяти лет для полного проявления своего потенциала человеку может быть мало, восьмидесяти пяти-девяноста – чаще всего достаточно, а к ста годам большинство людей, доживающих до этого возраста, устают от жизни и начинают относиться к грядущей смерти спокойно, со смиренным достоинством. Поэтому следует дождаться того времени, когда наука сможет увеличить среднюю продолжительность человеческой жизни до девяноста-ста лет. Жизнь более долгая, а тем более бесконечная стала бы для нас бесконечно утомительной.
88
Каждая поездка в Мартемьяновку для меня – как путешествие в бесконечность. Я сижу в салоне автомобиля, раскинув руки по сторонам, и поглядываю в окно. А за окнами мелькают пространства. Русские пространства… В них причина нашей тоски, нашей лихости. Несобранный мы народ, рассеянный по великим делам и великим пространствам. Серое небо, бескрайняя степь, одинокое деревце напротив неба – вот вся природа. Едешь-едешь, и жутко на сердце оттого, что нет ничего кругом. Жутко, как в храме. Но перед этой пустотой нам когда-то держать отчет. А пустота – вещь бессердечная. Промолчит, пробезмолвствует, сколько ни кайся – все напрасно. Стоишь на коленях, плачешь, но Кто-то в тебе молчит, и нет ответа, и нет смысла в тоске. Тихо, бесприютно, смутно. Тонешь в этой тишине и себя не находишь – нет человеку дела, нет пристанища, сколько не кричи – ни до кого не докричишься, степь-в-себе ни до кого не выпустит. Плачь, кричи, буйствуй – все равно ты один под этим холодным небом. Только глухой огонек на краю окоема обязательно мерцает, блазнит, обещая царство покоя и тихой воли. А есть оно, нет ли его – Бог весть.
Мелькающие за окнами пейзажи сами запечатлеваются в моей памяти: изломанные деревья, лениво изогнутые холмы, лениво текущие реки, черные избы, пустые поляны, бескрайние и безлюдные дороги, на полустанках – замерзшие в ожидании поезда торговцы, сиротливо предлагающие гостям нехитрые платки и шарфы, в селах – измученные работой лошаденки, одинокие часовни, растерянно глядящие в небо, покосившиеся и упавшие кресты на кладбищах, а чаще всего – холодно дышащие равнины, равнины, равнины – и облака над ними, легкие, кучерявые, свободно и плавно текущие по мягкому оглядистому небу, такому зазывчивому и гостеприимному, в отличие от неприветливой земли. «Ах, Рассея моя, Рассея – азиатская сторона!» – почему-то всплывают в моей памяти эти слова.
И между этими рассеянными в степи островками неуюта лежит моя дорога. Деревенская дорога! На тебя, впервые в жизни, с незапамятных лет выбегали русские ребятишки. Выбегали – и из-под ладони, приставленной к глазам, смотрели вдаль, на твои изгибы, непонятные и чарующие, и сердечки колотились от чувства: вот она, жизнь! А после, повзрослев и посуровев сердцами, уходили они по тебе же – туда, в мир, далеко, чтобы понять, что там, за горизонтом, куда ты, дорога, ведешь… Не все возвращались, – кто в других краях корни пускал, а кто и косточки свои белые схоронил за чуждыми горами-долами. Но были и те, кто приходил назад, к родимому дому, а то и к родному пепелищу, и всех ты принимала, и всех вела – к себе, к судьбе, какая кому начертана. Сколько босых пяток колотило тебя, сколько солдатских сапог месили твою пыль, – всех ты помнишь, но ни о чем не расскажешь нам. Куда ты ведешь, русская дорога? Где край-конец твой, где цель твоя? На земле или на небе? Не скажешь ты, ничего никому не скажешь. Только льются горячие лучи на тебя с плоского русского неба, только стрекочут в траве по обочинам пьяные от зноя кузнечики, только пыль вздымается над тобой от легкого поземистого ветерка. Пыль, пыль, пыль… Пыль земная, пыль забот и трудов человеческих. Только ей, дорога русская, доверяешь ты тайны свои.
89
Ровно в полдень все участники «веселого братства» собрались в Мартемьяновке – на малой родине Глинского, в нашем месте силы. После самоубийства Рудницкого существование нашего общества оказалось под вопросом, нам было трудно встречаться, смотреть друг другу в глаза, и Глинский решил торжественно распустить братство. «Мы разойдемся в разные стороны и никогда больше не соберемся на наших заседаниях, – объявил он, – но каждый из нас понесет в мир те знания, которые открыл у нас – в меру своих сил. В нашем конце – наше начало». Роспуск братства был задуман как своего рода репетиция конца света и создания нового неба и новой земли.
Мы неторопливо поднялись на мостик через Замарайку, на тот самый железный мостик, на котором Глинский в детстве, таким же жарким летним днем, пережил мистическое видение. На середине моста Михаил Степанович поднял руки и замер, подняв лицо к небу. Это был знак, что началась минута молчания. Мы стояли неподвижно, глядя на бегущие по степному небу белые облачка и подрагивающую на ветру бородку Глинского.
Председатель братства медленно опустил одну руку, и мы молча поклонились друг другу – сначала направо, потом налево. Глинский достал из-за пазухи тетрадь со своим Евангелием, медленно разобрал ее на страницы и роздал нам. Мы замерли с листками в руках. Под тихое журчание реки Михаил Степанович сложил из первой страницы рукописи бумажный кораблик и бросил в воду. Следом за ним так же поступили и мы, только я разбирал не Евангелие от Глинского, а свои дневники – свое прошлое. Все это происходило в полном молчании, слова были не нужны. Тугарин морщил брови, Леда со слегка отстраненным видом смотрела в сторону, на речку, переливавшуюся под лучами степного солнца.
Мы стояли на мостике, одним строем, как приговоренные к расстрелу, и смотрели вниз. Кораблики медленно плыли по течению речки, все дальше, дальше, дальше… Белые пятна корабликов на синей речной глади мелькали то здесь, то там, длинной вереницей тянулись до горизонта. Река уносила их в просторы Великой Степи, лежавшей в середине огромного континента. Мы прощались с нашей мудростью и верой, игрой и обманом, уверенные в том, что на их место обязательно придет что-то другое. Все прежнее прошло, но будущее ждало нас, и мы чувствовали, что готовы к нему, каким бы оно ни было.
Когда последний кораблик исчез из наших глаз, Глинский, не произнося ни слова, положил руку на плечо Гофмана, Гофман – на плечо Тугарина, Тугарин – на плечо Леды, Леда – на мое плечо. В этом прикосновении мы в последний раз передавали друг другу энергию Всеземли, которая была обещана нам.
Мы прикоснулись друг к другу – и в этот момент нас охватило сияние, в котором растворились очертания наших тел. Мы соединились в одно существо, в одну сверхличность, в которой жили, как составные элементы, души Глинского, Тугарина, Леды и Гофмана – все они стали частями души Алексея Темникова, того, кто их изобрел. И Рудницкий тоже был с нами, для него тоже нашлось место в моем внутреннем человечестве. И мой отец-скульптор, и мать, и Аталанта, и Марина жили и дышали во мне, их сердца бились внутри моего, их кровь текла в моей. И больше, кроме меня, в этом огромном мире не осталось никого.
60
Душа души моей, Аталанта, я всегда чувствовал, что в Тебе есть другая Ты, скрытая от меня. Теперь я узнал эту вторую Тебя. Теперь Ты – золотая Леда. Ты – другая часть вселенской формы Аталанты. Ты светла и победоносна, Ты дана мне, чтобы светить миру нашим двойным светом, моим серебряным и твоим золотым… Я открываю глаза и вижу тебя. Я закрываю глаза - и вижу, что иду по тропе среди тенистого хвойного леса. Лес растет в прекрасной долине, над вершинами деревьев виднеются белоснежные горные склоны. Где-то неподалеку шумит море, сквозь ветви деревьев до меня докатывается рокот прибоя. В волнующихся, как морская вода, ветвях поют птицы, их трели то возносятся к небу, как обелиски, то срываются к покрытой травами и хвоей земле, как водопады. Я знаю, что там, где горные гряды подходят прямиком к морю, можно найти множество прекрасных гротов, – я присутствую одновременно во всех этих гротах, вместе с тенями древних богов и героев, когда-то бродивших здесь. Я во множестве своих подобий странствую по всем тропам этого леса, я осязаю его ароматы, пропитанные морской солью и свежестью птичьих трелей. И на одной из дорожек вдруг останавливаюсь, видя, что на ветвях дерева передо мной находится знакомая фигура в белом платье. Моя Аталанта, невысокая, стройная, нежные маленькие руки, артистично откинутая назад голова, темные кудри, большие глаза, серьезно глядящие на меня – вечный вопрос, стоящий передо мной, перед моей жизнью – душа души моей, рождение и гибель моя – Ты смотришь на меня с дерева, молча, с еле ощутимым упреком, словно призывая к чему-то – ветви шелестят вокруг тебя, зеленая листва прячет Твое белое платье – я тянусь к Тебе – Ты превращаешься в жар-птицу, взмахиваешь золотыми крыльями и улетаешь в небо – зеленое мельтешение листвы, неба и солнца – смута, хаос, вертящиеся палочки – головокружение, боль и ослепительный свет в моих глазах… Я стою на месте, тру глаза руками, и вокруг меня ничего - ни леса, ни неба, ни пространства, ни времени, ни даже пустоты, только я, страдающий и мыслящий, среди монолитного небытия… Изредка среди этого несущегося потоком плотного небытия проскальзывает лицо Леды. Моя золотая Леда, вселенская форма любви, Леда-Аталанта, душа души моей… Есть ли Ты? Есть ли я? Все смешалось в вихре вертящихся палочек, и я могу только повторять: Россия, Леда, Аталанта.
56
СИМВОЛ ВЕРЫ В СЕБЯ
Я верю, что я — Личность, часть Человечества. Я знаю, что звание Человека и Личности превыше всех иных званий, что никакие конкретные земные победы не могут сделать меня больше чем человеком, и никакие поражения не могут лишить меня этого звания; поэтому треволнения жизни и ее случайные события не имеют власти над моим спокойствием. Я знаю, что все окружающие меня также имеют звание Человека, и в общении с ними проявляю уважение к этому званию, превосходящее мою возможную неприязнь к их конкретным недостаткам.
Я верю в Жизнь, и мое доверие Жизни абсолютно. Я доверяюсь ее могучему течению, ее животворной очищающей силе, способной спасти меня, но признаю, что без моей активной земной и духовной деятельности это спасение невозможно.
Я верую, что у жизни есть смысл и цель, и понимаю, что понять их нельзя без любви к Жизни. Я люблю Жизнь, и эта любовь является для меня гарантом осмысленности моего бытия. Смысл жизни заключается в поиске смысла жизни. Вместе с тем я верую, что истины не существует вне живого, мыслящего и любящего человека, и не превозношу абстрактные категории философии над живой жизнью.
Я верю в счастье, которого добиться легко: не ищи счастья как кумира — и ты станешь счастливым.
Я верю в свой путь, который отличается от путей других людей, но не является ложным, признаю необходимость самостоятельного движения по этому пути. Чтобы стать кем-то, надо быть собой. Я стремлюсь к духовной независимости, но осознаю, что она возможна только вместе с моим признанием наличия у других людей равной независимости. Настоящая вера в себя несовместима с неверием в других.
Я всеми силами пытаюсь хранить и развивать в себе как святыню неповрежденный остаток высшей человечности.
Я верю в себя!
3
Я – одна из точек на плоскости, условно именуемой человечеством. По своей духовной сущности я – не вполне человек. Я – скорее робот, созданный ангелами для выполнения работ по организации культурной жизни. Поэтому люди мне мало интересны – единственное, что в них есть хорошего, это то, что о них можно писать. (Я смотрю на земные вещи из космоса. Того, чего нет для вселенной, нет и для меня. Это касается как людей, так и искусства).
Как человек я умер в одиннадцать лет. То, что сейчас работает в литературе, издает журналы и пишет книги, – голограмма, существующая только для того, чтобы возвестить людям о возможности жизни после смерти.
Я – не эскапист и не бунтарь. Я нахожусь по ту сторону бунта и смирения. Смирение есть служение Богу, бунт есть служение себе, а я служу истине, бескорыстно и послушно, отвергая при этом все влияния, которые мне кажутся ложными. Духовно я нахожусь за чертой этого мира, пребываю в своем внутреннем монастыре, «восхищенный от мира своим ужасающим счастьем». В этом – мое недеяние, мой социальный идиотизм (в хорошем смысле этого слова) и умение сидеть на всех стульях сразу.
И напоследок. Когда я умру, хочу быть мумифицированным и положенным в мавзолей (или, на худой конец, в пирамиду). Так меня легче будет воскресить, когда наука освоит эту в принципе достижимую технологию. Если такие благословенные дни настанут, я думаю, у меня будет предостаточно тем для новых книжек.
Мир существует, чтобы войти в ведомость, а составлять эту ведомость кто-то должен.
118
ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ АЛЕКСЕЯ ТЕМНИКОВА,
РАССКАЗАННАЯ ИМ САМИМ
Свои предыдущие воплощения я помню неточно. Помню, что я был:
– моллюском,
– стрекозой,
– рептилией.
После ряда воплощений в обличии рептилии я был наказан возвращением в растительную оболочку (за то, что сожрал кого-то не того) и несколько жизней воплощался в растениях. После на редкость добродетельной растительной жизни сразу пошел на повышение и с тех пор воплощаюсь исключительно в человеческих телах.
Все мои жизни проходят в свете Белого Луча Вознесенного Владыки Сераписа. Я – одно из земных воплощений Белой Тары (Св.Софии).
Моя звезда – Антарес.
Мои скандинавские боги – Один и Ангрбода.
Мое дерево – тополь.
Мои металлы – серебро, сталь, свинец.
Мои животные – скорпион, еж, ворон.
Мои цвета – багровый, желтый, черный, коричневый, темно-синий, белый, бежевый, светло-салатовый.
Мои реинкарнации – Арсений Тарковский, Агриппа д’Обиньи, манихей 6 века нашей эры. Места моих воплощений – Австрия, Германия, Иран, Древний Рим (Боэций?), Греция (Гераклит). Моя нынешняя реинкарнация в человеческом обличье – семнадцатая, я выполняю восьмую кармическую задачу (осмысление и запечатление в слове прожитого, осознанного и увиденного в прошлых жизнях). Я выполняю эту задачу в течение второй жизни.
Мои духовные имена – Арнанди, Менестрель, Строитель, Птицелов, Антариус, Мизгирь, Жорэс, Коронатор, Расмус Кристенсен, Сальвадор Аристо, Николас Шварц, Юкио Коругава.
Мою мистическую жену зовут Элайя, она – существо с другой планеты. Воплощалась на Земле в облике Марины Цветаевой, в нынешнем воплощении – Аталанта, в следующем – Наоко Агава. Мы сможем быть вместе на Земле только в следующем, последнем нашем земном воплощении, в Японии, в конце XXI века, где я, как подобает душе, обретающей плоть в последний раз, буду горбуном.
По гороскопу я – солнечный Скорпион, асцендентный Рак, лунный Телец, синтетический знак – Рыбы. Знак высшего Зодиака – Ворон.
Мои стихии – вода, металл.
Мои месяцы – ноябрь, февраль.
Любимые образы – кипящий лед, холодное пламя, угли в пепле, железный лес, каменное небо.
Наиболее близкие по духу учения – стоицизм, конфуцианство, зороастризм, некоторые направления старообрядчества.
Любимые поэты – Данте, Рильке, Арс.Тарковский (я), Даниил Андреев, Блок, Лермонтов, Ходасевич, Поплавский.
Любимые прозаики – Лермонтов, Достоевский, Л.Н.Толстой, Л.Леонов, А.Белый, Г.Гессе.
Любимые исторические личности – Данте, Колумб, Джордано Бруно, Ломоносов, Н.К.Рерих, я.
132
ИНСТРУКЦИЯ ПО САМОПОГРУЖЕНИЮ
Перед путешествием в свой внутренний мир нужно как следует вооружиться. Рекомендуется максимально заострить свои мысли, отточить литературный стиль и окружить аналитический разум броней бесчувственности. Имейте в виду, что в недрах вашей души вас могут поджидать страшные чудовища, и постоянно будьте начеку. Ужас перед тем, что эти твари являются частью вас, может оказать парализующее действие, и они растерзают вещество вашего существования без малейшей жалости. Наши внутренние демоны любят тьму и гневаются, когда сознание направляет на них лучи света, но это не значит, что свет делает их бессильными, – наоборот, когда они действуют открыто, они приобретают особую наглость, словно разум, зафиксировав их существование, легитимизирует их и дает право на преступление. Молитва и аскеза, как правило, укрощают их сильнее, чем логика, способная понять их, но не способная укротить.
Итак, вы вооружились как следует, обложили себя со всех сторон книгами по философии и психологии, заперли двери, задернули окна в своей комнате и выключили свет. Внешний мир на пару часов прекращает свое существование, отныне есть только вы. Исключите из мыслей все внешнее, пусть в сознании останется только то, что касается вас. Что вы чувствуете в этот момент? Тепло или холод? Ласку или сопротивление? Радость или неудовольствие? Пока ваше внутреннее зрение не привыкло к темноте, не торопясь ощупайте края вашего одиночества, мысленно представьте себе его форму, высоту, ширину и глубину пространства, которое принадлежит только вам и создается вибрациями вашей души.
Это ваш, только ваш мир, и это – вы сами. Обретите себя как космос, не такой уж и большой, но бесконечно сложный. В будущем вы увидите, что в нем есть множество звезд и планет, летящих по своим орбитам, на планетах есть океаны и континенты, реки, горы и пустыни, дороги, ведущие из страны в страну, и чудовища, поджидающие путников на этих дорогах. Все это станет зримым для вас позже. Пока же – успокойтесь, ощущая свою сложность, многоуровневость и наполненность собой. Обретите себя как покой, как славу, принадлежащую каждому, кто осознал свое «Я». Затем почувствуйте, что в вашем мире, до краев наполненном покоем, ничего не происходит, ведь для того, чтобы что-то произошло, необходимо нарушение равновесия, вторжение враждебной силы извне, а этого-то ваш внутренний мир, отключенный от света, лишен!
Обретите себя как смерть, почувствуйте тошнотворный вкус яда отъединения от вселенной, заключенного в том же сияющем «Я». Поймите, что вы в такой же степени Ничто, как и Все, по закону единства противоположностей! Все живое создано, чтобы быть Чем-то, частью, обретающей жизнь в соприкосновении с другими частями, а цельность – удел единого Бога. И не является ли Он, бесконечно совершенный, бесконечно примитивным именно в силу своего совершенства? Ощутите ужас человека, представляющего себя на месте Бога. Обретите себя как ад, ад собственной исключительности!
Вы – все, и вас – нет. Вы абсолютны, и вы – мертвы. Вы вознесены выше мира, и поэтому вы в аду! Вы уже чувствуете, как вас лижут языки пламени, как вы содрогаетесь и скрежещете зубами от боли отключенности от любви, от бытия… И в этом пламени вы находите свое спасение! Только живая душа способна чувствовать боль, в боли вы находите жизнь, в жизни – связь со всем живым и вырываетесь из олимпийского ада своего одиночества на простор, заполненный вечным сияющим потоком метаморфоз. К вам приходит понимание того, что жизнь – это вы, а вы – это жизнь! И в жизнетворении себя вы обретаете собственный рай, свет, который равно находится вне и внутри вас. С этого момента вы всесильны, потому что вышли в открытый космос, пережили невесомость, смерть и воскресение, не выходя из своей комнаты.
Поздравляем вас с обретением внутреннего суверенного рая! Теперь можно встать с кресла, раздернуть шторы и ароматным чаем с конфетами не торопясь отпраздновать новый космический опыт.
37
Если бы я был Богом, я не стал бы создавать такого мира, как наш. Я создал бы идеальный геометрический мир, где в черно-белом пространстве, разделенном прямыми линиями вдоль и поперек, по прямым траекториям двигались бы идеально симметричные, нетленные и неспособные к радости и боли черные квадратные тела. Они бесконечно перестраивались бы, создавая все более и более сложные и изысканные композиции. В этом мире не было бы ни смерти, ни насилия, ни естественного отбора, он был бы гармоничен и бесконечно изощрен.
Но такой мир уже создан, он называется «Тетрис»! Если Бог есть, он должен смотреть на работу Алексея Пажитнова с завистью: русский программист превзошел его.
70
О МАШИНЕ
(Из проповедей Михаила Глинского)
Поистине, мир – это Машина, переламывающая и перемалывающая человеческие кости и души. Время, пространство, их измерения, глубина души и высота мысли, дороги, которыми ведет нас судьба, и цели, к которым мы стремимся, – все это – только винтики и детали, шестеренки, между зубцами которых движутся наши жизни.
Как победить эту машину? Мы так тесно срослись с ней, что не замечаем ее; но это только яснее указывает на степень участия ее железной воли в нашей жизни.
Железная воля; железная мысль; железная душа. Вот те черты, которые помогают нам выжить в этом мире. И многие люди уже окостенели в стремлении найти общий язык с Машиной и стали машинолюдьми. Она сами – зубчатые шестеренки, они сами перемалывают тех, кто сохранил в ударах жизни мягкость и трепетность души и тела.
Как бороться с Машиной? Как спастись от ее ига? Она сильна и почти самодостаточна; только одного требует ее гигантский механизм – смазки человеческими кровью и слезами.
Кровь и слезы – вот дары, которые приносят волхвы цивилизации рождающемуся машинному богу. И мы невольно припадаем к его стопам, и целуем их, и славим рождество смерти нашей.
Где же он, где живой, настоящий Бог, способный спасти нас от механической духовности?
Мы молимся до кровавого пота, но наши молитвы – это только сырье, необходимое для переработки в огненном нутре Машины.
Продукты мертвого машинного искусства и науки производит Машина, и мы невольно участвуем в создании этих полуфабрикатов.
И ангелы представляются нам уже не иначе, как в белых халатах ученых и с микроскопами в руках. Как мы расщепляем атом, так они расщепляют атомы нашей жизни, расщепляют улыбки и слезы наши, и силой этих взрывов питается Машина, именуемая мирозданием.
Мы можем остановить Машину, если перестанем плакать; без наших крови и слез она остановится, – но станет ли это благом?
Без движения ржавчина лени и отчаяния разъест металлические члены Машины, и наши души заржавеют так же, как ее детали.
Проржавевшая совесть, проржавевшая мудрость, рассыпающаяся в мелкий алый порошок Любовь… Вот что станет нашей сущностью, если мы уничтожим Машину!
Есть только один выход – трудиться на благо Машины, одушевляя ее своим прикосновением. Пусть наши глаза дадут машине способность видеть, пусть наш мозг даст ей способность мыслить, пусть наши души сделают ее живой!
И мыслящая Машина обретет способность любить и сострадать, и человек уже не будет отдельной деталью механизма бытия, а сделается органом бесконечно великого, живого, любящего тела.
Единая кровь будет течь во всех людях человечества, единые слезы во всех глазах будут оплакивать каждого из страдальцев, единая душа будет биться в миллионах сердец.
Но как мне не потеряться и не рассеяться в этом бесконечном теле, космос мой, Машина моя!
28
Над вратами в ад написано: «Бытие определяет сознание».
69
Вечность, как и бытие, – удел одного Жизнебога. Он творит мир нашими руками, спрятавшись внутри каждого атома. Каждый атом создает все остальные атомы, весь наш мир. В нас и с нашей помощью Жизнебог вечно порождает и пожирает самого себя, в нас он умирает, попадает в рай и в ад, ибо он везде и причастен ко всему. Отдалиться от Жизнебога невозможно, потому что Он абсолютен и присутствует даже в отклонении от себя, любое бытие держится благодаря Ему, и даже в небытии наличествует Его присутствие – это, собственно, единственное, что есть в небытии.
83
Формула отношения к смерти
Я хочу говорить с тобою, Смерть. Я не боюсь тебя, ибо знаю, что не я – тебя, а ты – меня должна бояться. Ты беднее меня, Смерть, и несчастнее, ибо жизнь твоя, абсурдная жизнь смерти, длится только один миг – миг моего умирания. Пока я живу, я каждый миг побеждаю тебя; когда я умру, ты обретешь одно мгновение полного торжества надо мною, но против этого одного мига я выставлю мириады мгновений своей жизни, полных чувства, мысли, любви, полных Человечности, – и счет нашего поединка все равно будет в мою пользу. Не бойся меня, дочь моя Смерть; мы не враги с тобою, и я помогу тебе избавиться от страха и, живя рядом со мной, работать на меня, а не против меня. Союз Жизни и Смерти – вот что нужнее бессмертия! Если он сформируется, то само бессмертие будет уже не нужно. И я пью кровь и плоть Жизни, причащаясь во имя этого союза: за твое здоровье, дочь моя Смерть! За твое здоровье, сестра моя Жизнь! С днем рождения, Бессмертие!
79
Этот сон приходит ко мне снова и снова. Сегодня ночью я опять увидел в пространстве над собой колосса, чудовище, состоящее из множества человеческих, собачьих, медвежьих и тигриных голов с выпученными глазами и оскаленными пастями. Все они выли, стонали, рычали, клацали зубами. Изредка между окровавленными клыками появлялись когтистые волосатые руки, извивающиеся змеиные хвосты и осьминожьи присосчатые щупальца. В темном пространстве над моей головой раскрывалось и баламутило воздух бесчисленное множество клыкастых пастей, бесчисленное множество красных и черных глаз и ноздрей, жадно вдыхающих дым от крови. Некое неимоверное великое существо, укутанное в сотни многослойных светящихся разными цветами тканей, вздымало над Собой бесчисленные виды оружия. Его непрестанно шевелящееся, как взбудораженный муравейник, мощное тело было увито бесконечными гирляндами из стучащих друг о друга человеческих черепов и умащено пронзительно пахнущими кроваво-липкими мазями. То, что предстало передо мной, было необозримо огромным и ослепительно отвратительным. Сотни тысяч красных солнц освещали приторно-льстивым сиянием это ужасное божество.
Я увидел в гигантской форме Жизнебога пространства вселенной, сошедшиеся в одной точке и вместе с тем разделенные на бесчисленные части. В хищном космическом теле, в его темной урчащей утробе бушевало несметное множество рук, животов, ртов и глаз. Они находились повсюду, они хватали, рвали, глотали и переваривали друг друга, и им не было конца. От этой дикой охоты вселенскому Богу-Желудку было бесконечно больно и бесконечно приятно, Его гигантское тело стонало и выло от животного сладострастия. У этой вселенской всепожирающей и всепорождающей формы, поистине, не было ни начала, ни конца, ни середины.
Ослепительное и зловонное сияние, исходившее от Жизнебога, было подобно темно-багровому бушующему огню или бесконечно навязчивому, желчному, ослепительному солнечному свету; заливая собой все, оно мешало Павлу видеть хищные пасти и ноздри колосса. И все же, куда бы он ни бросал взгляд, везде он видел Его блистающий облик, увенчанный императорскими коронами, бармами и тиарами, с палицами, булавами и окровавленными ножами в бесчисленных мускулистых руках.
И это была сама жизнь. И это была высшая цель познания. На этом монстре, как на гигантском ките, покоилась вся вселенная! Этот неисчерпаемый, абсолютный хищник, скрывающийся под масками всех богов и демонов, хранитель вечности, Безликая и Всетысячеликая Личность, обладал беспредельным величием.
Пальцы бесчисленных рук Абсолюта, волосатые и мясистые, украшенные сияющими рубиновыми и изумрудными перстнями, хищно извивались, как жирные черви. Из красных плотоядных уст Жизнебога вырывался бело-синий холодный пламень, опаляя всю вселенную, заливая сиянием миры, расплавляя людей и переплавляя вечные истины. И в эти бесчисленные пасти, в миллиарды темных зевов, зияющих со всех сторон, устремлялись жужжащими золотыми потоками великие люди, мыслители, провидцы и пророки всех времен и народов, подобно ничтожной суетливой мошкаре или гнусу. Они кричали проклятия Сверхсуществу или пели ему гимны, но участь их была одинакова: они влетали в Его разверстые пасти и, наткнувшись на окровавленные клыки, лопались, издавая громкий звон, похожий на звон бьющегося хрусталя.
Созерцая эту всевеликую, всехищную и всегрозную форму, я пришел в ужас. «Кто ты?» – завопил я, обращаясь к богодьяволу, разверзшему передо мной свою пасть. «Ничто», – зазвучало пространство вокруг меня. – «Ничто. Ничто. Ничто», – пел воздух тонкими голосами, и в моих ушах стоял невыносимый звон от этого непрекращающегося пения. «Ничто… Ничто… Ничто…» – шептал я. – «Ни-что. Ни-че-го… И все. Все и Ничто – это одно и то же. А что делает их одним и тем же, одной сущностью? Что превращает Все в Ничто? Время. Вот оно что. Я видел то, что увидеть невозможно – я видел в р е м я».
30
Два главных недоразумения в мире – время и пространство. Они разделяют человеческие души, которые без них могли бы слиться в единое сверхвеликое существо, достойное называться Богом.
136
На самом деле Рудницкий не повесился, это литературный вымысел. Рудницкого вообще никогда не существовало, в реальном мире его заменяет Грудницкий, он кинорежиссер и он бессмертен.
144
Теперь, когда мы все мертвы, единственное, что остается возможным для нас, – это невозможное. Все остальное для нас утеряно. И только невозможное открывает нам свои врата. Когда земля уходит из-под ног, остается только ходить по воздуху.
141
Выдумал глагол «мементоморить» – помнить о смерти. Я мементоморю, ты мементоморишь, мы мементоморим (заперлись вдвоем и мементоморим вовсю). Монументальный мементомор мементоморил ментальным мементоморством. Мементоморы всех стран, соединяйтесь! Я в своей книге создам для вас обширную гостеприимную мементоморию.
138
Эту книга когда-нибудь закончится?
139
Никогда.
5а
Вертящиеся палочки. Точки, запятые, зигзаги. Разноцветные пятна краски на моих картинах. Из них возникают лица – Аталанты, Марины, Леды. Мое лицо, лицо Рудницкого. Из пестрого хаоса выглядывают неандертальские глаза Тугарина, за ним мерещится совиный взгляд Глинского. И за ними – десятки и сотни других.
И все это – Всеземля, единая душа, единое тело, возникающее из множества отдельных личностей, как собор из камней. Одна душа переходит в другую, как волна сменяет волну, форма волны меняется, но вода остается неизменной. Все как океан, в одном конце тронешь – в другом отзовется… Все как океан. Это и есть Всеземля.
Мои мечты. Мои видения. Мои картины. Воплотятся они в жизнь или только останутся недоказанной гипотезой о возможности гармонии? Останется ли гипотезой моя любовь к Аталанте? Неважно. Главное, что эти предположения сформулированы и высказаны, а доказать их – или опровергнуть – смогут другие. Те, кто придет после меня. Те, для кого я всю жизнь работаю и мечтаю.
Слушайте меня, читайте меня! Для вас я инвентаризировал свою жизнь, пересчитал и пронумеровал свои мысли и чувства, расположил их по порядку, а потом перемешал: разберетесь ли вы в этом? Надеюсь, что у меня получилась яркая мозаика, и вам будет интересно ее собирать.
100
ГЛАВА ИЗ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
Огонь, копье, книга. Перо, стрела, топор. Меч, колесо, лестница. Дом, алтарь, очаг. Дым, пар, скорость. Воздушный шар, турбина, мотор. Мортира, танк, бомба. Вера, знание, любовь. Теория притяжения и принципы относительности. Евангелие и Фауст. Дон Кихот и Раскольников. Дорога в рай и провалы в ад. Весь мир, созданный людьми и для людей. Мир, людьми и для людей уничтожаемый.
Университеты, храмы и библиотеки. Великие фабрики смыслов, генераторы будущего. Институты синтетического времени и нелинейных истин. Математические доказательства очевидно невероятного. Ловкость мысли и сила мошенства. Человеческие увертки и божественное откровение. Все летит в сокровищницу Апокалипсиса, в закрома Страшного Суда.
И все тленное забудем мы. И все главное припомним. Припомним города каменные и махины железные, припомним волны эфирные и взрывы смертные. И людей, парней, девок и стариков, умирающих от серости. И воинов, смотрящих в небо невидящими глазами… Все припомним.
А еще вспомним, как кресты на кладбищах тоскуют по умершим, как вечность надрубленным деревом качается над погостом. Вспомним детские глаза и руки, кричащие громче уст, вспомним крики и слезы, вспомним боль и радость этой жестокой жизни. И прорастем над болью новыми всходами, и привьется водоросль души человеческой в окрестностях небесных, неведомых доныне Атлантид…
Все вспомним. И ни о чем, ни о чем не пожалеем – вовеки.
Суд грядет. Жених грядет в полуночи. И дремлем мы, не зная времени пришествия Его.
Спит мир. Колышется тишина над нашими головами, и редкие звезды, видимые в ночи, глядят сквозь нее. Глядят красные, усталые, злые или тоскующие глаза космоса. И течет время – над нами, мимо нас, сквозь нас.
Спит мир.
Грядет жених в полуночи.
Ей, гряди скоро!