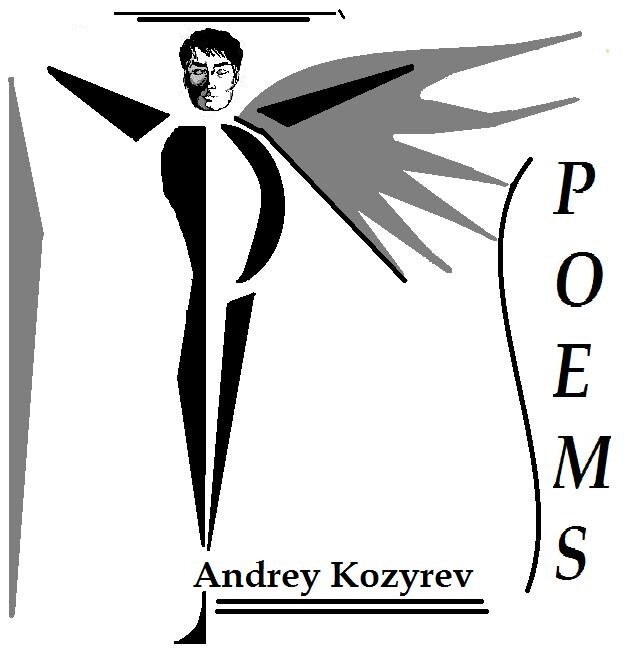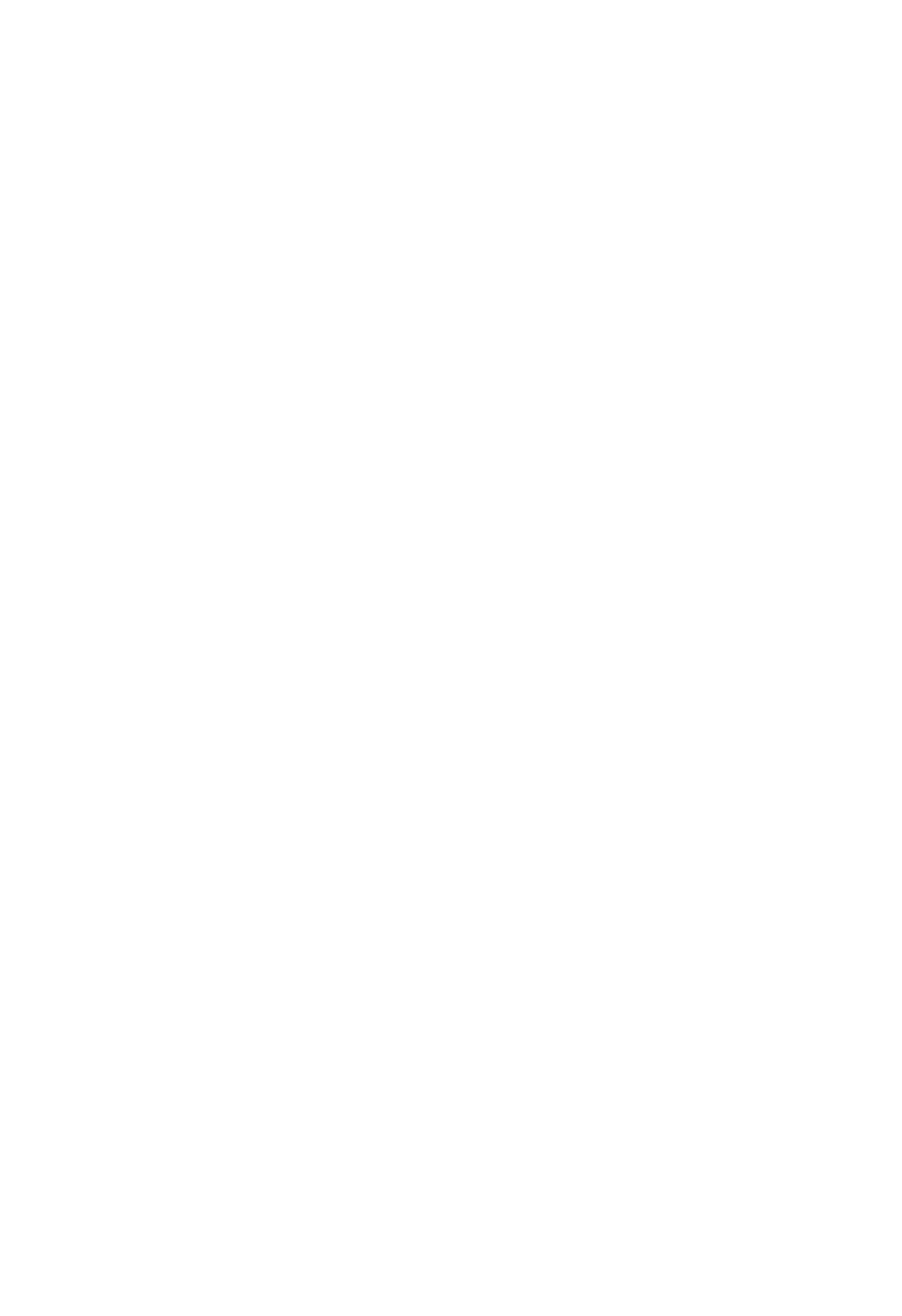
ГОРОДА В МОЕЙ ГОЛОВЕ
Верлибры
ЛЮБОВЬ ЧАЙНИКА
* * *
Это случится однажды:
дети, сбежав с урока,
убегут в открытый космос
и к вечеру
принесут нам подарок –
кусочек неба
в оправе из марсианской глины.
А после этого
они взвалят небо на плечи
и отнесут к реке,
чтобы постирать.
А затем –
дети объявят войну смерти
и захватят царство мертвых
при помощи деревянных сабель,
чтобы выслушать рассказы прадедов
о давно пролетевших жизнях.
Это случится однажды…
* * *
Я попросил ребенка:
«Нарисуй небо» –
он нарисовал птицу
в пустом пространстве.
Я сказал:
«Нарисуй жизнь» –
он нарисовал переполненный цирк.
Я попросил:
«Нарисуй себя» –
он взял рисунок с толпой в цирке
и поставил еще одну точку.
Мой первый враг
Я не видел его лица,
видел только руки
с грязными пальцами
в узком окошке.
Он был закрыт, как в танке.
Он я слюнявил и считал деньги –
Билетер, который
не хотел подарить мне,
восьмилетнему ребенку,
билеты в цирк.
* * *
В пригородном лесу,
в помойной яме,
обнажился пласт древней глины.
На глине
лежат консервные банки,
бутылки из-под пива,
окурки, объедки,
иголки и листья.
Но все-таки это она –
та глина, из которой нас лепили.
Мое жилище
Балконы в моем доме. Высокие балконы,
длинные, застекленные балконы.
Балконы разных цветов и оттенков.
Балконы с разными выражениями на лицах –
грустные, серьезные, ироничные.
Балконы для курения. Балконы для хранения вещей.
Балконы для наблюдения за соседями.
Балконы для сплетен. Для чтения книг. Для любви.
Балконы как часть жизни человеческой,
не принадлежащей человеку вполне.
Балконы как глаза десятков квартир.
Балконы как губы, говорящие об их обладателе
больше, чем он хочет умолчать о себе.
Балконы, балконы, балконы – сто сорок восемь
балконов,
на которых нет ни одного цветка.
Крики
Слышались крики ночью.
Слышался вой сирены.
Слышались выстрелы.
Вскоре все стихло.
Убил ли кто-то кого-то,
был ли кто-то наказан –
не знает никто.
Слышались крики ночью.
Почему – неизвестно.
* * *
Мой сосед сверху похож на Нигде и Никак,
соседка снизу — вылитое Всегда,
ее сын — очевидное Почему-то…
Так и живу
в мире предлогов, местоимений и междометий,
не находя среди них
ничего существительного!
* * *
Раскрытые форточки
беседуют друг с другом
вдохами и выдохами.
Одна сообщает,
что в комнате за ней пьют.
Другая заявляет,
что за ней всю ночь курили.
А третья стыдится,
смущенно моргает
и пытается скрыть аромат женских духов.
* * *
Однажды
я заметил из окна толпу людей
и от нечего делать
сфотографировал ее.
Девушка в толпе была высокая,
красивая,
светловолосая
и черноглазая.
С той поры
я постоянно смотрю на снимок,
чтобы ощутить
одиночество песчинки
на морском побережье.
* * *
Я говорил тебе нежные слова,
но они едва касались тебя,
растекаясь,
как слепой дождь, по коже.
Но клейкие листья
от дождя
освободились из почек;
распустились
клейкие, прозрачные слова
на весеннем деревце,
которое –
ты!
* * *
Чайник поет, словно бедуин.
Огонь на газовой конфорке
признается в любви
воде.
Вода, потрясенная внезапным признанием,
встает клубами пара.
Вот она, любовь:
сначала – внезапная вспышка,
затем – много шума из ничего,
и в конце – все испаряется!
Homo zontikus
Моя любовь к тебе –
как зонтик:
она промокнет до нитки,
только чтобы укрыть тебя
от ливня,
а, как только дождь закончится,
ее ставят в угол –
сохнуть.
Жаль,
что моя любовь нужна тебе
лишь на время непогоды.
Любовь
Два тела встретились –
как две волны
в едином океане.
Где ты теперь, где я?
Два тела встретились –
как корни двух деревьев,
сросшиеся в ночи.
Где ты теперь, где я?
Два тела встретились –
как два холодных камня,
тверды, мертвы, грубы.
Где ты теперь, где я?
Два тела встретились –
как два клинка холодных,
блистающих во тьме.
Где я теперь, где ты?
Как умирает любовь
Это начинается незаметно:
просто глаза становятся чуть тусклее,
улыбка – чуть грустнее,
морщинки в уголках губ – чуть-чуть глубже.
Затем в глубине души
начинается засуха,
и почва,
на которой произрастали нежные слова,
начинает изнемогать от жары.
Потом –
на опустевшее пространство сердца
обрушивается пыльный ветер,
от него начинаются
рези в глазах и в совести,
перехватывает дыхание.
И, наконец, мертвый, белый и легкий иней
опускается на опустевший ландшафт
миновавшего счастья…
Но и от засохших деревьев любви,
когда-то даривших плоды
первым влюбленным
(ибо каждая любовь –
первая на земле),
еще долго продолжает исходить
тонкий, пьянящий,
немного терпкий
и вызывающий странную сладкую боль
аромат.
* * *
Так больно сказать «прости». Давай говорить
о чем-нибудь ненужном: так мы легче поймем
друг друга. Знаешь,
сейчас – не время плакать, а время прощаться.
Скоро ты снова станешь счастливой.
Наступает осень, пыль
клубится в лучах заката, и дорога
зовет меня. Наверно,
Когда-нибудь мы увидимся снова: не узнаем себя,
или подружимся, или, кто знает, полюбим снова.
А сейчас – просто молча смотри, как кружится
пыль…
Memoria
Когда умирает твой друг,
имя его падает
в твои руки.
Оно плачет,
оно не может жить без хозяина,
оно просит,
чтобы ты его успокоил.
Дай ему дом,
теплое и верное жилище
на своих устах,
и дай ему соседей –
добрые слова
о друге умершем.
Если друг ушел от тебя,
сохрани его имя.
Кто знает,
может быть, он вернется
и попросит имя обратно?
* * *
Быть может,
кузнечик стрекочет
в траве густой и зеленой.
Быть может,
вода зажурчала
в роднике, сквозь землю пробившемся.
Может быть,
люди песню поют
о детстве, весне, о восходе.
Может быть.
а может, и нет.
Ты нас не слышишь.
Что такое война
Война – это не только свист пуль,
не только гром канонады,
не только разрушенные города.
Война – это обмен
обручального кольца,
подаренного мужем,
недавно убитым,
на буханку хлеба.
* * *
Солдаты моей армии – герои.
Солдаты твоей армии – герои.
Они знают, как умирать
и как убивать.
История смеется над этим
и награждает солдат
ненужными медалями
за бесполезный героизм.
* * *
Все рассказывают звезды.
А.Блок
Испокон веков
солдаты говорят одно,
а раны солдат – другое.
Когда войска идут на войну,
солдаты поют,
а старые раны – плачут.
Когда войска сражаются,
солдаты кричат,
а раны – горят.
Когда война заканчивается,
солдаты молчат,
предоставив говорить остальным,
а раны – говорят.
Все рассказывают раны.
* * *
Бывают такие лица,
в которых взгляду уютно и тепло,
как в хорошей гостинице
после долгой дороги.
Бывают такие руки,
пожав которые,
касаешься неба.
Бывают такие глаза,
в которых гостят облака и корни
одновременно.
А судьбы,
которая уместилась бы в линию на ладони,
не бывает.
Икона
Икона висит в углу
и закрывает спиной
темное пространство.
И только от веры
зависит,
что скрывается за иконой, –
просто стена,
темная бездна
или седьмое небо.
Жизнь
Припадая на бок,
волоча кровоточащую лапу,
бежит и бежит
раненая лиса
по берегу озера,
опустив морду,
роняя загустевшую слюну,
смешанную с кровью,
в чистую синюю волну.
А за ней
бесконечной синевой расстилается
огромное озеро,
озаренное первыми лучами
рассвета.
КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ
* * *
вкус западного чая
кружит на стрекозиных крыльях
в отделившейся от разума памяти
просыпающейся в пробковой камере
запланированной за тысячу лет
скомканной до атома
маленького как крик
входящий в фиолетовую тишину
между мной и тобой
изгнанной из паутины
но отражающейся в зеркале
бездомных сквозняков
* * *
по ту сторону тишины
живут новые смыслы
невесомые как море
прозрачные как плоть
свободные как деревья
бессмертные как прошлое
они блуждают по нашему будущему
не находя нас
и жалеют
что мы всегда так задерживаемся
по эту сторону тишины
* * *
мечтает золотой лев
в засушенном саду
о лимонной заре
о багровой арене
о полосатом шуме
где кесарь беседуя с Софией
глядит на арлекинов
падающих с неба
с красными знаменами
в классическое море
меняющее кожу на глазах
чтобы наш привычный мир
стал чудом и предчувствием
нового колокола
разрывающего лазурь
в просторах наших легких
* * *
безвоздушное пространство
падает сплошным потоком
сквозь невидимые крики
в которых
невесомые кентавры
бесстыдно парят
неся головы свои на руках
туда
за пределы протяжения
в мокрую клетчатую тишь
за которой
сиреневые души космонавтов
летят с небес
в лимонную зарю
* * *
буря топит непобедимую армаду
в граненом стакане
наполовину пустом
как эта строка
прикрученном болтами к столу
парящему в воздухе
посреди
граненого
русского
неба
* * *
русская береза
нервная и ободранная
пытается вырвать корни из земли
и пустить в небо
в котором больше места
для корней
приставок
суффиксов и окончаний
из словаря времен
в котором все страницы
перепутаны
а последней
нет
* * *
мой нечетноглавый орел
устал клевать кровавую пищу
под окнами
в забетонированном небе
и просится в полет
над великой степью
моего одиночества
центр которого везде
а границы нигде
как у орлиного бога
разбивающего это стихотворение
как яйцо
изнутри
* * *
человек-невидимка
ищет родину-невидимку
заведенную ключом сказку
осыпающуюся над металлическим садом
как синяя мозаика
на цепи подвешенная к небу
стиснутому молитвами и криками
встающими паром от дышащего моря
полного медом молоком и кровью
трудов и дней
миллионов людей-невидимок
не желающих быть видимыми
чтобы не увидеть себя
* * *
следя за священными плясками
крылатых медведей
в говорящей небесной степи
я начинаю различать
проторенные наугад
скифские тропы
сквозь серую музыку
повседневных
болотистых
рукопожатий
* * *
я человек-небоскреб большой и квадратный
упершийся в небеса
квадратной головой
с квадратными мозгами
и квадратными словами
в квадратных стихах
выносящихся из квадратного рта
и скребущих небо
которое еще
почему-то
не квадратное
* * *
перемещаясь внутри глазного яблока
колоссального изваяния
я нахожу в нем все новые и новые ходы
лабиринты и отдельные кабинеты
с уникальными видами на семь кругов неба
смотрю на райские кущи сверху вниз
тоскую по тому
что уже не устану от ходьбы
и снисходительно киваю стражникам
с нацеленными на меня пистолями
стоящими вдоль моего маршрута
бесконечного и замкнутого
внутри точки Омега
* * *
город как волынка
раздувается и гудит
грядет в зеленом шуме
огромен озорен стозевен и таяй
гудит
бредит
пляшет в золотом огне
питаясь нашими снами
глазами и слезами
из окон
где усталый призрак
бросает карты на стол
извивающийся
как змея
* * *
лошадиная сила
запертая в автомобиле
ржет что есть мочи
бьет копытом землю
закусывает удила
ищет седока
способного освободить из железной тюрьмы
сто раз скопированную
и размноженную на ксероксе
бумажную парнокопытную
птицу-тройку
* * *
в недрах горизонтального небоскреба эволюции
живут искусственные интеллекты
разного калибра
и их создатели
сами не замечают
как шарики искусственного разума
шевелятся в их волосах
щебечут в их ушных раковинах
проникают в их легкие
и пишут там
поэмы
симфонии
проекты застройки новых городов
скрижали новых религий
и встраивают их
в рассуждения естественного интеллекта
успешно пожирающего
своих детей
* * *
мой сборник стихов
стоит в библиотеке
и сквозь книжные полки
видит
как его подземный двойник
заточенный между страниц
земной коры
строит хитрые планы
переписывания моих стихов
и преображения их
в знаки препинания
в высоковольтном словаре
времени
* * *
книги в ненаписанной библиотеке
разворачивают страницы
машут крыльями
как бабочки
выпускают ножки и длинные хоботки
и разлетаются в небывшее прошлое и ложное будущее
в поисках куколок
в которые им хотелось бы
свернуться
* * *
поэт-сквозняк
бесплотный как Россия
входит читателю в одно ушко
выходит из другого
ничего не оставляет
но многое находит
в себе
простодушном
простуженном
воздушном
легком как камень
мягком как ножницы
вечном как бумага
разграфленная наискосок
для записи
партитуры
русских сквозняков
* * *
мир привычный как картошка
преображается на глазах
меняет кожу
солнце превращается в луну
дворцы из алюминия и жести
врастают в землю как грибы
звезды розы квадраты
обрастают людьми
в очках нарукавниках и испанских сапогах
мастеровито готовящих
в непуганом вакууме
триумф разума
пошлости
и точного расчета
* * *
музыка
моя нерожденная любовь
супруга словесной судороги
твое звенящее тело
ломается пластинкой
дробится дождиком
рыжих звуков
капель крови
из внутреннего поющего моря
где горизонтальный дождь нот
осыпает головохвостых русалок
спиральных спрутов
молчаливую камбалу
врываясь в подводные течения
хорошо инструментированной тишины
вращающие шестеренки
под земной корой мозга
где дяденьки-молоточки
ударяют по омузыкаленным нервам
и бестелесная пружина звука
сжимается до запятой
красные зерна шепота
нащупывают путь сквозь землю
изнутри яйца стучат
слова песни
скорлупа опадает веером голосов
новое звукотело
отражается в телозвуке
горлом смакуя небо
ребрами ощущая любовь
пока тысячи пальцев музыки
скользят по прошлому и будущему
в десяти направлениях
и неприкосновенный запас хаоса
зарытый
в извилинах мозга времени
углубляется в себя
празднуя покоем
как фата Ее молчания
ветвится во мне
* * *
спокойно
печально
тихо
возвышенно
нежно
зло
мы заперты
не убежишь никуда
да и не надо
никто не мешает
ни склок
ни шума
ни войн
покой
покой
покой
сиди взаперти
думай думай думай
напрягай зрачки
всматривайся в краешек неба
где мигают и щурятся звезды
хищные
как пауки
наша банька с пауками
летит по вселенной
мимо звезд и галактик
через весь космос
бессмысленный
паучий
в высоту
в пустоту
на лету
спокойно
печально
тихо
возвышенно
нежно
зло
* * *
пляшущие человечки
мелькают у Бога в глазах
по стенам
по окнам
по небу
скользят белые фигурки
пляшут пляшут пляшут
машут руками
бегут по нашим лицам
мыслям
чувствам
машут флажками
подают сигналы
мы только пространство
для их танцев
у них нет ни души ни тела
безгрешный сияющий мел
бесплотная плоть
которая заменит нас
когда на смену нашему
графитному периоду
придет
меловой
КОКТЕБЕЛЬСКИЙ НОКТЮРН
Ганне Шевченко
1
В теплом море тлеет
звездопадаль. Дикий виноград
жмется к стенам, словно писатель,
возвращающийся с пирушки.
Ветер –
ангел, посланный в ад
и изгнанный оттуда
за дурное поведение –
придавлен к городу небосклоном.
Одиночество звенит,
как цикада, в летней траве. Фонари
подмигивают звездам. И хрустальный воздух
разбит на осколки человеческим
голосом.
Настает ночь. Ночь признаний.
Ночь воспоминаний о жизни.
Это время, когда душа раскрывает все
в ней потаенное. Говори. Говори обо всем,
что ты знал, чувствовал и пережил – и неважно,
услышит ли тебя кто-то.
Говори – с пустотой. Говори в пустоту.
Говори правду.
Там она будет услышана,
ибо в пустоте – ее
родина.
2
Ночь размывает очертания предметов
под ногами. И время,
подобно колесу обозрения,
поднимает меня над простором прошлого,
и я могу обозревать с высоты лета его противоречивый
ландшафт: сначала – сухие степи детства, солончаки, пустыня,
где еще почти нет людей, красок, голосов;
чуть южнее – буйные леса юности, сады, парки,
дворцы вельмож, ныне пришедшие в запустение; а еще
дальше –
горы, скалистые и высокие, еле заселенные
чувствами. Такова карта жизни,
с высоты полета памяти увиденная.
Эта панорама воспоминаний и зовется в просторечии
человеком. Бог создал человека не из глины,
а из воспоминаний. Что мы помним –
тем и живем. Ибо человек –
это память,
в плоть облеченная.
3
Говори, память. Говори –
обо всем на свете. О пустяках. Например,
о жизни и смерти. О любви. О злобе,
еще более безответной, чем любовь.
О навязчивости света.
О прозрачности тьмы. О воспоминаниях,
в которых люди барахтаются,
как в воде, не умея плавать.
О волнах прошлого,
набегающих на берег настоящего, уносящих
накопившийся за день мусор и оставляющих
раковины, пену и соль.
Соль,
которой всякая жертва осолится.
Соль,
которая обжигает кожу земли.
Соль,
которая ночью блестит ярче далеких и неподвижных
звезд.
4
Говори.
Ночь признаний
лучше Люмьера прокрутит перед глазами
старинную пленку, именуемую жизнью.
Вот садовник поливает цветы, а мальчишка
наступает на шланг; вот поезд,
приближающийся к вокзалу, распугивает
зрителей синематографа. Вечные сюжеты,
вечные черно-белые картины
первой встречи юности и старости,
техники и человека, иллюзии
и реальности; прошлого
и настоящего. Приезжай снова,
как сто лет назад, старый поезд
воспоминания; я больше не испугаюсь тебя.
5
Что наши жизни,
жизни человеческие? Только створки
некоей одушевленной раковины,
темною волной разбитые.
Мы уже не можем звучать,
и между нами уже не зародится
жемчужина. Но нас может подобрать
бродящий по песку ребенок,
забытый родителями, или заплутавший в мироздании
неприкаянный ангел.
Счастье не вернется к нам,
как бумеранг, бьющий по голове каждого,
кто запускает его в пространство –
по-видимому, в отместку
за нарушение покоя. Счастье не возвращается,
ибо оно недостаточно криво, чтобы летать
по кругу. Но и для смерти
этот маленький космос слишком груб.
Соль не сходит с губ
омываемого приливом берега. Ангел
бродит босиком по пляжу,
всматриваясь в даль. Ночь
медленно перетекает с неба
в море.
6
Седина полыни
серебрится около дома,
где жил поэт. Темная волна
памяти опьянена неизбывно
горечью песка, песчинок человеческих,
пересыпающихся на побережье
жизни моей. На побережье,
на границе счастья
и пустыни человеческой,
как и тысячелетия назад,
возвышается ночь.
Ночь – собор всей твари,
ночь – единение прошлого и настоящего,
ночь воспоминаний,
чаша,
до конца мною испитая.
МОСКВА В МОЕЙ ГОЛОВЕ
Поэтхроника минувшей вечности
1.Парад тишины
И вновь я посетил
столицу встреч и разлук, точку схода
надежд и разочарований, материальную точку сборки
бесчисленного множества невидимых исторических
линий, библиотеку слов и дел, раскинувшуюся
на территории, равной полутора Нью-Йоркам или доброму десятку
Парижей,
великую первопрестольную,
город сорока сороков царей и царьков –
Москву.
Я,
Андрей Козырев, тварь
недрожащая, небочеловек,
гражданин поэзии, столичный литератор, член
Москвы, поэт номер
две тысячи пятьсот сорок четыре (согласно билету городской
писорганизации, полученным неделю назад),
прохожу по Садовому кольцу, как конец часовой стрелки,
гонясь за своим более быстрым подобием – мечтой,
проходит концентрические окружности по краю
циферблата судьбы, не имея возможности попасть в его
центр – и тем более в сердцевину того механизма,
железная воля которого и дает ему
жизнь.
Я ищу кратчайшую дорогу к Красной
Площади, где готовится
шестьдесят девятый Парад одной на всех Победы,
но постоянно натыкаюсь на перегородки,
турникеты, охраняемые полицией, пропускающей
только обладателей заранее полученных
пропусков.
Чтобы победить в войне,
не нужно заполнять заявку на победу и получать
согласие в руководящих инстанциях, но,
чтобы отметить праздник, нужно иметь разрешение.
Улицы, ведущие к Красной площади, перегорожены,
как нередко перегораживается запрудами человеческая
совесть,
когда она грозит затопить разум неугодной ему
правдой.
Народ тем временем смотрит праздник по
телевидению. Улицы опустели.
И я, не попавший на парад вооруженных сил, наблюдал в Москве
Парад Тишины. Тишина проходила
по опустевшим улицам, войска ее
несли бесцветные знамена;
тишина маршировала по брусчатке площадей,
тишина расточалась, рассеивалась,
как зерна, в пространстве, дабы возродиться
ростками новых стихов, –
Тишина Московской Земли,
тишина, пересекаемая
гудками машин и трехцветными
полосами, чертимыми самолетами в небе.
Тишина,
бесконечное пространство тишины,
в которой вечно вращается
некая полая сфера,
похожая на земной шар.
Сфера, центр которой –
везде, а границы –
нигде, как сказал
какой-то допотопный
философ.
2. Небесная Москва
...Незадолго до праздника
поступила информация о возможном
теракте. И полиция, дабы не допустить
теракта, принялась терроризировать население
мерами, необходимыми для его охраны.
Красная площадь была перегорожена
турникетами, охраняемыми служебными собаками
и приставленными к ним полицейскими, сорок сороков раз,
и, чтобы пройти из одного края площади на другой,
надо было перенести как минимум семь досмотров.
Здесь становится ясным отличие
милиции от полиции: если моя милиция
берегла меня, то наша полиция нас
стережет.
От нас же.
И в этом ее работа подобна работе
совести
и противоположна работе разума.
И я, доморощенный
Улисс, странник, не имеющий цели
странствия, проходил по этому лабиринту,
мучаясь от нестерпимых болей в ступнях,
стиснутых слишком тесными ботинками, подаренными
незадачливым другом за день до вылета моего
в Москву.
А над лабиринтом города грозно нависал другой
лабиринт, –
пересечение тысяч путей небесных, домов и обиталищ,
деревьев, животных, человеческих тел и лиц,
облаками созданных. Москва небесная
простиралась над земной на сотни километров
в высоту человеческой памяти. Москва,
где нет ничего постояннее перемен. Столица,
ветром гонимая от одного края земли к другому. Город,
построенный без единого камня. Пространство
пересечения аэропутей, облаков и голосов,
траекторий душ и воспоминаний человеческих,
покинувших землю. Небесное метро,
по которому передвигаются души.
Транспорт потаенных чувств и переживаний. Пустота,
наполняющая мир. Реки пустоты,
напояющие вселенную. Небо,
огромное, как тишина.
Москва небесная.
И Улисс блуждает
из края в край неба, то умирая,
то воскресая, по бесконечным лабиринтам
без крыш и стен. И пустота
содрогается, когда полый шар
человеческого воображения
вращается в пустоте, приводя в движение
мир.
И я проходил пустоту из края в край
горящими ступнями, как Красную площадь,
где земля действительно настолько кругла,
что на ней невозможно было бы удержаться, если бы не
давление неба, утяжеляющее нашу поступь
и прижимающее нас к земле.
Над Красной площадью всего круглее небо.
Оно изогнуто, как выпуклая линза, через которую мы рассматриваем
ничтожно малую часть поверхности голубой кожи
небес, пронизанной белыми кровеносными
прожилками.
А вот бы взглянуть сквозь линзу неба
на себя: какие мельчайшие первоэлементы
подлости и благородства обнаружились бы тогда,
какие истины стали доступны бы людям?
Впрочем, для этого надо перевернуть
линзу, перевернуть
небосвод,
лицевая сторона которого голуба, а изнанка –
черна, –
по крайней мере, так кажется нам, жителям земли,
затерявшимся в недрах
неба и воспринимающим его
изнутри.
Шар Земли несется по орбите сквозь
черноту изначальной материи, сквозь
время и пространство. Человек
идет по поверхности земного шара
и спотыкается от боли вонзающихся в подошвы
тысяч незримых иголок. Дело не в обуви,
тесной для ног, а в теле,
слишком тесном, чтобы вместить
душу. И душа
медленно выходит, как капли пота, сквозь поры
времени,
задыхающегося от жары.
3. Недоказательство жизни
Наконец, после двух часов блуждания по
лабиринту площади, посетил я
инсталляцию в Манеже, ради которой и пролетел
три тысячи километров, три тысячи
книг и картин, за столетие написанных, –
на выставку русского авангарда,
сделанную неким британцем, проживающим в Голландии.
Это была
выставка Времени. Самый совершенный созданный Богом
Ад; настолько совершенный, что от созерцания его безупречной
сделанности
чувствуешь себя на верху блаженства. Серый полумрак зала,
разрезаемый по диагонали плоскостями изображений,
телевизионными экранами минувших дней с лицами
поэтов, художников, режиссеров, картин,
рисунков, фильмов, вещающих
отчасти подлинные, отчасти выдуманные монологи;
пол, перегороженный так, что почти невозможно
пройти темноту из края в край, не споткнувшись;
зрители – умственные дамочки и сопровождающие их мужчины,
занятые глубокомысленным созерцанием постановки
спектакля памяти. И кажется, что в темноте над всем этим
блуждает незримый Улисс,
бог, забывший о своей божественности,
по вечно вращающемуся шару человеческой
памяти, памяти крови.
Алые шарики несутся по
венам вселенной. Я вхожу
в неосвещенный зал прошлого,
в искусство, не хотевшее быть
Искусственным, в историю,
не хотевшую становиться прошлым.
В вечное сегодня. В Настоящее-
В-Прошлом. В категорию памяти,
переходящей в предчувствие. В мир,
неосуществленный полностью,
но долженствующий быть.
Тишина. Тишина, набухающая,
как почки на вербе. Тишина,
собирающаяся в единую точку.
Тишина, порождающая безумие,
которое есть перебродивший
разум.
Концентрические окружности расходятся от
точки безумия, поставленной гением,
и захватывают мир. Слово прыгает,
как камешек, по поверхности воды жизни,
нарушая покой ее.
И над всем этим
полый шар вращается в пепельно-сером
пространстве. Улисс блуждает
от континента к континенту. Небо
прячется в конверт облаков, чтобы быть отправленным
по ангельской почте.
И от созерцания этого
зрелища сами собой выстраиваются в воображении
строки трактата, которые могли бы быть написаны
неким художником, супрематистом Творения – или
сами написали бы супрематиста
на серовато-желтом холсте человеческого
воображения. Кисть снует по холсту,
оставляя черные полосы мыслей,
и выстраиваются в ряды примерно такие
фразы:
«Главной проблемой, которую нам предстоит преодолеть,
несомненно, является смерть. Но, чтобы добиться этого,
необходимо устранить ее причину,
именуемую банальным коротким словом –
жизнь. Смерть подлежит физическому уничтожению,
а жизнь можно победить простым указом
о ее отмене. Стоит председателю земного
шара объявить, что жизнь
аннулируется,
как станет ясно, что ее на самом деле и не существовало
как явления эстетически наполненного. Ведь, в действительности,
если жизнь в строго научном определении есть способ
существования белковых тел,
то какое отношение это может иметь
к поэзии, мысли, созидательной эволюции, работе
души? Смерть есть поэтическая реальность,
тогда как жизнь есть пустота между рождением и смертью,
которую мы и пытаемся всеми силами
заполнить. Мы боремся с пустотой,
в конечном счете, с жизнью, а так как пустоты
не существует (ибо еще древними греками было доказано,
что пустота есть несуществование, следовательно,
ее не существует), то и жизнь
есть фикция с точки зрения поэзии. Возможно,
когда-то она и будет существовать –
тогда, когда прекратят быть пространство
и время, энергия и материя, ограничениями своими
придающие нам характер смертных. Сейчас же
жизнь есть великолепная гипотеза,
которую нам предстоит
доказать или опровергнуть...
За работу, друзья!»
Я ухожу с выставки, унося воспоминания,
боль родины – на подошвах своих,
измученных ботинками на два размера меньше, чем я
могу надеть, и вдохновение –
в груди своей, как воздух
иной планеты, в мои легкие навсегда
въевшийся острее туберкулеза,
воздух, не имеющий облика
и голоса; воздух,
в котором вращается полый шар и странствует
божественный Улисс, умерший и
вечно воскресающий, – странствует
от воспоминания к воспоминанию.
4. Пространство Супремус
Метро везет меня
с выставки в гостиницу. Я сижу,
повторяя в памяти строки, сложившиеся
на выставке (см. выше). В это время
в вагоне, где я еду, пьяные пассажиры
затевают драку. Метро останавливают,
и полиция выпроваживает пьяниц
из вагона.
Драка на перроне
человеческой истории, по-видимому,
не прекратится никогда. И буяны,
и люди, утихомиривающие их, навеки остаются
спутниками Истории, – искусственными
спутниками, запущенными
в космическое пространство.
Тишина набухает.
Спутники посылают планете все новые сигналы.
Шар продолжает вращаться
в сером пространстве, во внутреннем пространстве
памяти.
Словно в песне, в небе происходит
тайное движение. Струи воздуха принимают
подобие человеческого лица. Мир становится
человеком. Человек обращает к миру
чистое лицо свое.
Я читаю книгу
в метро. Поезд выезжает
из туннеля на метромост в тот самый момент,
когда над Москвой начинается
фейерверк. За окнами мелькают
звезды, розы, квадраты, расширяющиеся
сферы – воплощенные образы созидательной
эволюции. И в пространстве супрематизма
поезд взлетает. Он проникает
в те сферы, где странствует
Улисс, – в сферы на три тысячи километров
выше уровня человеческой
жизни. Там и пишу эти строки
я, небочеловек,
член Москвы, поэт номер
две тысячи пятьсот сорок четыре,
космос,
и надеюсь не кончить до смерти.
09.05.2014.
Аэропорт «Шереметьево»,
зал ожидания.